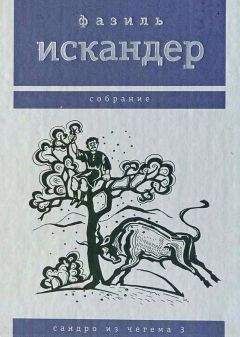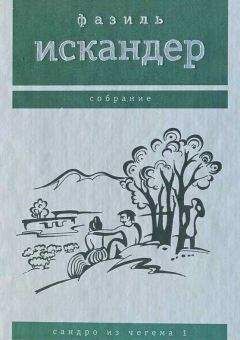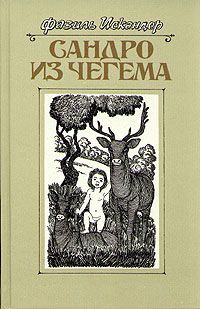Значит, уже скрыть нельзя, что в меня шесть раз попали. Делают так, как будто я шесть раз стрелял и в меня шесть раз стреляли. Мой защитник это тоже высмеял.
— Это что, — говорит, — перестрелка или дуэль Пушкин — Дантес?!
Он сказал, что я вообще в преступников не стрелял, а стрелял в воздух, чтобы позвать милицию.
— Посмотрите на этого парня, — сказал он, — в недалеком прошлом десантник, отличник боевой подготовки, добровольцем уехавший на Кубу во время карибского кризиса… Неужели он ни разу из шести выстрелов не мог попасть в этих разбушевавшихся хулиганов, чьи личности, вероятно, будут установлены в дальнейшем более объективным следствием?
Значит, намек дает на наш первый вариант защиты.
— Выходит, — говорит, — по словам уважаемого судьи, наши десантники не умеют стрелять? Это клевета на нашу замечательную армию, призванную защищать мирный труд!
Тут его прокурор останавливает и говорит, что в словах судьи нету клеветы на нашу армию, но есть кавказский акцент, который московский товарищ принял за клевету.
Но мой адвокат с места ему отвечает:
— Есть клевета, и я прошу занести это в протокол!
Одним словом, он их раздраконил. Как он говорил, так и вышло. Мне дали полтора, и я из них просидел год.
И вот привозят меня в драндскую тюрьму, и там я вижу надзирателя, который оказался дядей моего хорошего товарища.
— Я слышал, — говорит, — Адгурчик, про твое дело. Знаю — ты не виноват. Но что я могу сделать, я маленький человек.
— Спасибо, — говорю, — дядя Тенгиз, мне ничего не надо.
Но в моем положении доброе слово душу греет.
— Одно, — говорит, — могу сделать: сколько хочешь внеочередные передачи.
И он вводит меня в камеру и сам уходит. И вдруг я вижу, такой здоровый парень смотрит на меня с нар и кричит:
— Привет, Урюк! Я тебя давно ожидал. Урюк!
Я смотрю — личность незнакомая.
— Ты, — говорю, — дружок, обознался. Меня зовут Адгур.
И я так прохожу мимо него и сажусь на свое место.
— Нет, — кричит, — ты Урюк! Как дела на воле. Урюк?
Я ничего не могу понять: оскорбить он меня хочет или обознался? И тут человек, который рядом сидел на нарах, наклоняется ко мне и тихо говорит:
— Не обращай внимания — он псих. Он всех называет по-своему.
— Если псих, — говорю, — почему он здесь, а не в сумасшедшем доме?
— Он, — говорит, — и псих и уголовник сразу. Не обращай внимания, он всем нам дал клички.
А я тогда не знал, что такое урюк.
— А что такое урюк? — говорю.
— Это, — говорит, — сушеный абрикос. В Средней Азии делают.
Теперь я думаю, где сушеный абрикос, где я? Если б я худой был, тогда другое дело. Видно, в самом деле псих. Черт с ним, думаю, если я шесть пуль выдержал. Урюк тоже выдержу.
И вот так мы живем в камере дней десять. А там еще сидел один такой молодой парень, с виду худенький, как оказалось, бывший работник железнодорожной милиции.
У него было такое дело. Он поймал двух проводников, которые везли около тонны мандаринов в город Горький. И он конфисковал эти мандарины, чтобы составить акт на проводников и отправить его в Батуми по месту их работы. Но он еще совсем молодой работник, а проводники битые, ничего не боятся.
— Ладно, — говорят, — мандарины ты конфисковал, но акт не надо писать. Мы оставляем две тысячи рублей у такого-то человека. Возьмешь и разделишь со своим начальником.
— Нет, — говорит, — мне ничего не надо, я буду составлять акт.
Они думают — он просто ломается, а он молодой, честный. Составил акт и послал по месту работы.
Проходит время, и вдруг приезжают эти проводники, оба пьяные в доску, и устраивают ему скандал.
— Ты негодяй. — говорят. — ты взял деньги, а дело не сделал! Мы на тебя в суд подадим.
И в самом деле подали. Оказывается, что получилось. Они тогда после него зашли к начальнику и ему тоже все сказали, и он обещал. И начальник его на следующий день вызвал и спросил насчет акта, а этот парень сказал, что акт составил и уже послал по месту работы. И начальник промолчал. И на этом заглохло. Оказывается, начальник что решил. Он решил связаться с их начальником по месту работы, они все друг друга поддерживают, и сказать ему, чтобы он этот акт порвал. А деньги, которые оставили проводники, забрать себе. Может, с тем начальником собирался делиться, может, нет, не знаю.
И он, ничего не говоря, забрал эти деньги. Но тот начальник или от этого ничего не получил или решил еще заработать. Он показал акт проводникам и, скорее всего, потребовал от них деньги. И они, скорее всего, ему дали. И от этого они психанули.
Потому что они решили — в Мухусе дело не выгорело и приехали за своими деньгами и узнали, что деньги уже взяты. И начальник им сказал, что этот парень самовольно послал акт. И потому они психанули и подали в суд.
Начальник, конечно, уладил бы это дело — но в это время Шеварднадзе проводил кампанию против взяток. И от этого все судьи и прокуроры перебздели, потому что боялись за свои старые грехи и всем совали большие сроки, чтобы показать свою честность.
И начальника забрали, и этого парня забрали, и обоим дали по восемь лет. И начальник, дурак, думая, что ему меньше срока дадут, или от стыда, сказал, что поделился с ним деньгами. Но разве судьи и прокуроры, люди с высшим образованием, не могли понять, что психологически даже невозможно, чтобы человек и деньги взял и акту дал ход? До того они перебздели за свои старые грехи.
И вот этот несчастный, вроде меня, сидит со мной в камере, хотя и бывший милиционер. И этот псих к нему цепляется за то, что он бывший милиционер. Он его называл — Сапог.
И мне жалко этого парня, он через свою честность пострадал, и дома молодая жена с годовалым ребенком. А этот уголовник к нему цепляется, но я терплю, хотя нервы не выдерживают. И я понял, что шестью пулями меня убить не смогли, но нервы испортили.
И вдруг однажды утром, я даже не заметил, с чего началось, псих схватил за горло этого несчастного парня, и я думал, как обычно тряхнет и пустит. Но вижу — не отпускает. А тот уже начинает синеть, как баклажан.
— Что ты делаешь, — кричу и пытаюсь его оторвать, — ты задушишь человека!
А он здоровый — не отрывается. Тем более — раздухарился. И я ему несколько раз так кричал и пытался оторвать, но он всосался в него как клещ. Вижу — задушит парня на глазах. Нервы мои взорвались! Врезаю от души прямо в челюсть.
Он упал. Я сел на нары — чувствую, нервы никуда не годятся. А этот как упал, так и лежит. И я начал беспокоиться: вдруг убил? Представляете, как мой судья обрадуется, если этот умрет. Нет, думаю, не может быть — глубокий нокаут.
Правильно, минут через пятнадцать он поднял голову и молча, на четвереньках дополз до своих нар, заполз туда и лежит, к стенке повернулся. Не шевелится.
И так весь день пролежал — обед не тронул, ужин не тронул. К стенке повернутый лежит, не шевелится, правда, дышит. Опять беспокоюсь, может, думаю, падая, сотрясение черепа получил?
И мне тот самый человек, который сказал, что он псих, опять наклоняется и тихо говорит:
— Надо в санчасть сообщить.
— Нет, — говорю, — подождем, может очухается.
В санчасть сообщать опасно. Потому что, если он там все расскажет и если об этом узнают мои враги, они пообещают ему свободу, лишь бы он меня убил. Конечно, свободу не дадут, но он псих, поверит.
И я уже этого начинаю бояться. И еще я боюсь, что он притворяется оглушенным, а ночью встанет и чем-нибудь долбанет. И теперь я всю ночь должен не спать, как тогда в больнице. Что за судьба, думаю. И так до утра лежу и не сплю. Иногда голову подымаю, смотрю — как повернулся к стенке, так и лежит.
Утром, только я сел на нары, вижу, он встает и медленно идет ко мне. Сейчас не знаю, что буду делать. В открытой драке я, конечно, его не боюсь. Но мне скандал не нужен. Не дай Бог, мои враги узнают. Подходит ко мне, наклоняет свою большую голову котяры и говорит:
— Ты, Урюк, слишком сильно меня ударил.
— Слушай, — говорю, — ты же чуть не задушил парня. Я же тебя спас от вышки.
— Ты, Урюк, чокнутый (это он мне говорит!), тебя мусора чуть не угробили, а ты их защищаешь.
— Слушай, — говорю, — мы же не судьи. Надо же отличать купленных аферистов от честных людей. Он за свою честность восемь лет получил, а ты его душишь.
Он стоит так, наклонив голову котяры, и думает. Потом говорит:
— Все же. Урюк, ты меня слишком сильно ударил.
— Ну прости, браток, — говорю, — нервы… Погорячился…
И так мы примирились. Вообще они уважают силу, больше ничего не уважают. Стал тише себя вести. А в тот день он лежал, повернувшись к стене не от удара, от обиды.
И вот меня уже отправляют в лагерь, и я снова вижусь с этим надзирателем дядей Тенгизом. Он прощается со мной, и я ему говорю:
— Дядя Тенгиз, тут в камере этот парень из милиции, несчастный, вроде меня. Боюсь, убьет его этот уголовник, переведи его куда-нибудь.