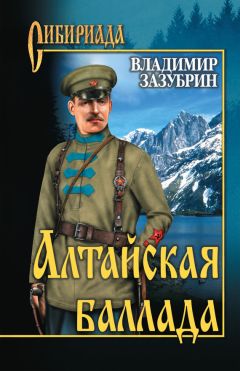— Ах, давайте же скорее свечи! Да где у нас свечи, черт возьми?
По телефону был вызван дежурный офицер из управления коменданта. Подпоручиков переписали, составили протокол. Потом у дверей встали солдаты. Начался повальный обыск, осмотр документов. Тех, у кого не оказалось удостоверений личности, офицер отводил в сторону и, пошептавшись, отпускал, шурша кредитками. Молодые офицеры из «Летучей мыши» выбрались утром совершенно пьяные. Дорогой шумели, орали песни, останавливали извозчиков, стреляли в воздух. У Колпакова был недурной баритон.
Мне все равно —
Коньяк или сивуха,
К напиткам я уже привык давно.
Мне все равно.
Мальчик Петин пытался поддержать:
Готов напиться и свалиться —
Мне все равно.
Тонкий голосок перешел в бас и сорвался:
Мне все равно —
Тесак иль сабля,
Нашивки пусть другим даются,
А подпоручики напьются.
Колпаков, Мотовилов, Рагимов, Иванов пели, идя по середине скверной мостовой, покачиваясь и спотыкаясь в выбоинах.
— А плоховато мы все-таки, господа, обмываем погоны, — оборвал песню Мотовилов.
— Эх, вот старший брат у меня в Павлондии [1] кончал. Вот где они ночку так ночку устроили офицерскую.
— Черт возьми, а у нас ведь и ночи-то офицерской не было, — отозвался Петин.
— Да, все это как-то скоропалительно случилось. Мы ждали производства через два месяца, а тут вдруг телеграмма — в подпоручики, готово дело. Э, какое у нас училище — ни традиций, ни обстановки, казарма, солдафонщина. Ах, Павлондия, Павлондия!
Мотовилов с завистью стал рассказывать, какие офицерские ночи устраивались в Павловском училище.
— Вы знаете, господа, это делается так. Сегодня, скажем, вечером начальство заседает, обсуждается вопрос о производстве в офицеры такого-то выпуска юнкеров. А юнкера — завтрашние подпоручики — в эту же ночь встают и, надев полное офицерское снаряжение на нижнее белье, босиком, под звуки своего оркестра, торжественно, церемониальным маршем обходят училище, дефилируют и по коридору офицерских квартир. Училищные дамы любили подсматривать из-за занавесок, в щели приоткрытых дверей любовались на молодцов. Когда обойдут все училище, возвращаются в роты, тут уже начинается потеха. Младшему курсу перпендикуляры восстанавливают — кровать на спинки со спящими ставят. Расправляются со шпаками. Морду кому ваксой начистят, кого в желоб умывальника шарахнут и ошпарят ледяной водой, кого просто поколотят. Тут уж никто не подступайся. Стон стоит. Офицеры гуляют. А в кавалерийском, в Николаевском — так там еще интереснее. В Павлондии фельдфебели в своих кальсонах маршируют, а там вахмистры в дамских панталончиках, со шпорами на босую ногу.
Мимо проезжали три извозчика. Офицерам надоело идти пешком.
— Стой! — крикнул Петин.
Извозчики хлестнули лошадей, хотели ускакать.
— Пиу, пиу! — взвизгнули два револьвера.
Извозчики испуганно остановились.
— Сволочи, офицеров не хотят везти, — тяжело садился в пролетку Мотовилов.
— Пошел! На Петрушинскую гору!
На улицах было уже совсем светло. У казармы Н-ского сибирского полка стоял дневальный.
— Остановись! Стой! — закричал Мотовилов.
Извозчики стали. Офицер выскочил из экипажа, подбежал к солдату:
— Ты почему это, сукин сын, честь не отдаешь? А? Не видишь, мерзавец, офицеры едут!
Солдат дернулся всем телом назад, стукнулся от сильного тычка в зубы головой об стенку.
— Доложи своему взводному командиру, что подпоручик Мотовилов тебе в морду дал. Понял?
— Так точно, понял!
Глаза солдата горели огненной ненавистью, рука у козырька дрожала.
Красные языки лизали Широкое. Черный дым затянул все улицы. С треском обрушивались постройки. Скот ревел, мычал, метался в пылающих дворах. Разбитые телеги среди села горели ярко, как сухая лучина. Убитые вспухли от жара.
Полковник Орлов со штабом стоял за поскотиной и смотрел на пожар. Спокойно, развалившись в седле, говорил, ни к кому не обращаясь:
— Да, иного пути нет. Верховный правитель прав, говоря, что большевизм нужно выжечь каленым железом, как язву. Адмирал прав, давая нашему атаману полномочия спалить, стереть с лица земли в случае надобности всю эту губернию.
Молодой гусар с погонами вольноопределяющегося подскакал к Орлову, подал ему небольшой клочок бумаги. Полковник пробежал донесение своего помощника:
Аллюр… Медвежье. 9 час. 30 минут пополудни… Доношу, что Медвежье занято нами без боя. По показаниям местных жителей, красных у них нет и не было. Сторожевое охранение мною… Разведка в направлении… Капитан Глыбин.
— Отлично! Господа, новость!
Белая кобыла круто повернулась.
— Медвежье занято нами без боя. Красные удрали.
Лошадь полковника засеменила тонкими ногами, танцуя, пошла по дороге на Медвежье. Штаб отряда и эскадрон с трехцветным знаменем двинулись за командиром. Копыта четко били пыльную дорогу. Серые качающиеся столбы взметывались следом, долго, клубились в воздухе. Ехавший в последних рядах Костя Жестиков оглянулся назад. Толпа крестьян молча, долгими, тяжелыми взглядами провожала всадников. Полковник нетерпеливо поднял лошадь на галоп. Пыль поднялась выше, целой тучей. Толпа исчезла, только зарево и дым пожара были видны ясно.
Въезжая в Медвежье, Орлов подозвал к себе адъютанта.
— Корнет, немедленно прикажите собрать все село на площадь. Оповестите народ, что сейчас будет отслужен благодарственный молебен по случаю победы над бандами красных.
Полковник со штабом остановился в школе. Штабные офицеры и канцелярия заняли все классы и квартиры учительниц. Учительницы запротестовали, стали просить Орлова не выселять их. Полковник нагло улыбался и возражал, шепелявя, скандируя и кривляясь:
— Ска-ажите пжальста, они не могут спать где-нибудь в коридоре, на полу. В них, видите ли, течет три капли благородной крови. Хе-хе-хе! Хотя, впрочем, я человек добрый, если вам будет жестко…
Полковник сказал сальность.
— Не правда ли, корнет? — обратился он к адъютанту.
Адъютант вытянулся, щелкнул шпорами, почтительно улыбнулся:
— Так точно, господин полковник!
— Разговор кончен, вопрос решен, — обернулся полковник к учительницам. — Вас я выселяю, можете поместиться у сторожихи. Школу определенно закрываю. Во-первых, потому, что она нужна мне для канцелярии, квартир; во-вторых, я полагаю, что детей разной красной дряни учить грамоте не стоит. Ведь она им годится, когда они подрастут, только для того, чтобы писать прокламации, разводить антиправительственную пропаганду, — это не интересно нам. Итак, я кончил. Вон отсюда!
Учительницы пошли к дверям.
— Виноват, одну минутку, — снова обратился к ним Орлов. — С завтрашнего дня вы готовите мне обед, понятно?
— Нет, непонятно, — ответила невысокая крепкая Ольга Ивановна. — Обед готовить мы вам не обязаны и не будем!
— Ну конечно, конечно, разве можно сделать что-нибудь для честного защитника родины? Разве можно сварить обед старому офицеру? Вот какому-нибудь красному негодяю, своему любовнику, вы, пожалуй бы, все сделали, не только обед, но и ужин бы состряпали, а после ужина…
Полковник снова сказал гадость. Ольга Ивановна побледнела.
— Я попрошу «благородного» полковника быть повежливее! — запальчиво бросила она ему.
Полковник расхохотался:
— Корнет, корнет, ха-ха-ха! Слышите? Эта вот учителька, эта мужичка, хамка, ха-ха-ха, учит меня вежливости, меня, дворянина, полковника, воспитанника кадетского корпуса. Ха-ха-ха! Да вы, оказывается, оригинальная штучка! Ну-ка, я вас посмотрю поближе.
Он вскочил со стула, хотел схватить учительницу за талию. Ольга Ивановна сделала шаг назад, подняла руку.
— Еще одно движение, и вы получите по физиономии.
Полковник покраснел, злоба мелькнула у него на лице. Но он моментально овладел собой, улыбнулся с деланной любезностью:
— Ой, ой, какие мы сердитые! Мы, оказывается, кусаемся!
И вдруг снова стал серьезным.
— Ну-с, мадмуазели, или как вас там, шутки в сторону. Больше уговаривать вас я не намерен. Приказываю вам завтра же приготовить мне обед. Не приготовите — выпорю. А теперь — марш на место.
…Почти все село собралось на площадь. Женщины, дети, старики, старухи, взрослые и молодежь. Красильниковцы оцепили площадь, загородили выходы пулеметами. Звонили колокола, неслось молитвенное пение, священник набожно, неистово крестился, поднимая глаза к небу, просил у Бога ниспослания мира всему миру и многолетия верховному правителю. Народ пугливой толпой колыхался на площади. Многие плакали. Полковник, опираясь на эфес кривой сабли, простоял почти весь молебен на коленях. Свита не отставала от начальства. Люди в блестящих мундирах, с золотыми и серебряными погонами, вооруженные до зубов, тщательно крестились. После молебна полковник встал на сиденье своего экипажа.