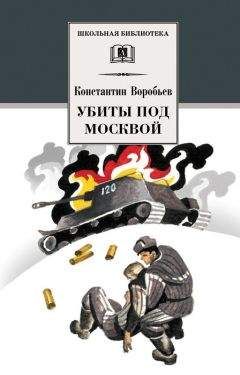Ознакомительная версия.
Лагерь наш располагался под городом Шяуляем в Литве – ишь куда занесла меня судьба! По причине однорукости (правую руку оторвало мне в бою под Волоколамском) немцы за всю зиму ни разу не выгоняли меня на работу. И дело тут заключалось не в жалости у них ко мне, а в моей непригодности. Ну, да черт с ними. Весной нашлось применение и мне. Оказывается, в лагере был еще один пленный без руки, и тоже без основной. Одним хорошим майским утром выкликнули из строя наши с ним номера, дал нам немец в уцелевшие руки по большому ножу, вроде тесака с бойни, стал сам в трех шагах сзади и погнал зачем-то в лес километра за четыре от лагеря.
День тогда выдался – прямо как наш, обоянский. Теплынь, солнышко печет, травка на обочинах дороги нежится… Напарник мой оказался человеком слабодушным. Отошли мы метров триста от лагеря, снял он с головы свою грязную пилотку, подставил лицо ветерку – и как зальется слезами!
– Чего ты? – спрашиваю.
А он слова вымолвить не может. Ревет – и все. Думаю: струсил, миляга, решил, что на смерть ведет нас фашист, а того, видно, не сообразил, что с ножиками на расстрел пленных не гоняют. Начал я ему объяснять это, а он и говорит:
– Да я не оттого! Ты слышишь, что в небе делается? Жаворонков чуешь? Они же русскими голосами поют. Точь-в-точь как у нас в Тамбовской области…
Ну, тут нас конвоир огрел прикладом разом обоих – тесно мы сошлись в разговоре… Жалко ему, сволочу, стало воздуха… слов наших утешительных друг другу. Ну, да черт с ним. Вытерпели мы и не такое, снесли и это, а через полчаса подошли к лесу.
При случае я, конечно, коснусь литовских лесов особо, а сейчас скажу только, что не леса, а чудо развели там люди! По нескольку километров тянутся они в разные стороны, и, между прочим, все в них растет такое же, как и у нас в России: сосны, дубы, ясень, клены… И даже цветы одинаковые. Может, вам случайно знаком весенний цветок-баранчик? Кудрявый такой, желтоватый, на длинной ножке? В детстве мы их охапками ели, потому что вкус у них на мороженое смахивает. Вот эти-то баранчики я и увидел сразу, как только пришли мы в лес. С голодухи показались они мне не то что мороженым, а… вроде хлеба! Навалились мы на них со своим напарником, а конвоир…
Ну что он мог другое придумать? Избил, конечно. «Дас ист дойче!» – кричит. Немецкие, значит, баранчики.
Ладно. Стал он нам прикладом объяснять, что мы должны делать. Оказывается, березовые прутья резать и складывать в кучки. Для чего они понадобились фашистам – ума не приложу. То ли на розги, то ли на метелки, чтобы фатерлянд свой подметать, то ли для банных веников.
На этом месте я хочу задержаться, чтобы получше объяснить вам, каким путем появилась у меня тогда мысль о побеге. Конечно, об этом я думал всегда – и днем и ночью, и во сне и наяву. Но тогда, в лесу, решение это созрело у меня полностью и со всех сторон, и не потому только, что к этому представились условия местности. Нет. Дело тут оказалось в другом, в том, что конвоир боялся нас, вот в чем!
Первый признак к этому был тот, что он остановил нас почти на голой полянке. На ней, может, и было-то всего три березовых куста да один пень дубовый… А второй признак – это наша с напарником однорукость. То есть две руки на двоих. Значит, еще в лагере у немца сидела где-то робость насчет того, чтобы идти с пленными в лес, и нас, таких, он выбрал умышленно. Понятно теперь? А на войне, да и вообще в жизни, получается всегда так: враг трусит – я смелею!
Ну вот. Определил нам конвоир дистанцию – дальше березовых кустов ни шагу, – сел сам на дубовый пень и заныл на губной гармошке какую-то свою немецкую кручинушку. А мы режем да режем. Напарник в одном кусте, а я в другом. Ножи, как я уже говорил, большие были и острые. Рубанешь одну веточку – она и набок. Хватишь две сразу – то же самое. Так что двух рук для такой работы вроде и не требовалось. «Неужели же, – думаю, – не хватит мне своей левши для того, главного своего дела? Неужели же мало ему ее одной будет?»
С напарником я решил поговорить об этом осторожно, намеками. Но как только подошел к нему и увидал глаза его, так все разом понял: думал он то же самое, что и я…
Оказывается, такое дело нельзя скрыть друг от друга людям. Смертную решимость то есть. В человеке тогда напружинивается все нутро его, а глаза отчего-то расширяются. И вот что удивительно – интереснеет тогда человек и даже ростом вытягивается… Ну, одним словом, напарник тоже понял и сказал всего лишь:
– Давай!
Но одно дело решить задачу головой, а другое – выполнить ее руками. Да еще одной и к тому же – левой. А главный вопрос застревал в том, как подойти к конвоиру. Вплотную. И чтобы он не видел твоего лица, потому что иначе он за десять шагов обо всем догадается! Тем более что сидит он настороже и боится именно таких для себя результатов…
Все это мы обмозговали за одну секунду – в такой обстановке шарики в голове работают здорово – и решили вот что: транспортировать нарезанные прутья к конвоиру. Я свою порцию, а напарник свою. Но двигаться порознь. Первым – я, а он немного сзади. Это мы придумали вот зачем. Во-первых, у конвоира бдительность ослабнет, а во-вторых, за прутьями лица наши скроются…
Ох и долго же я шел через эту полянку – то есть от кустов до конвоира. Будто сызнова переживал час за часом плен свой, потому что всплыл он весь передо мной, как в кино…
А когда дошел и стал класть у вражьих ног прутья, то до того ослабел, что чуть не свалился…
Тут я опять задержусь на минутку, и вот для чего. Понимаете, если бы конвоир не помог мне сам тогда, может, ничего не было бы, потому что вера из меня ушла. Но он толкнул меня сапогом. Толкнул и крикнул:
– Даст ист вениг! (То есть мало, значит.)
– Хватит! – сказал я ему и не услыхал своего голоса – один сип какой-то вышел. Зато от этого толчка ко мне разом вернулось все то, что в кустах переживал…
Ну, я думаю, вам неинтересно слушать подробности, как я его приголубил. Теперь я и сам дивуюсь – откуда тогда сила у меня взялась! Ведь я чуть ноги переставлял, а тут… Значит, самостоятельно береглась силенка в моей руке специально для этого случая, а я и не знал о ней. Можно было и раньше что-нибудь сотворить в этом роде…
После этого дела мы прихватили от своего бывшего конвоира винтовку и кинулись в глубину леса. Двигались изо всех сил – то бегом, то шагом, а то и ползком, потому что мочи было мало, а страху хватало – немцы могли пустить за нами погоню с собаками.
Но все обошлось. Под вечер перешли вброд небольшую речку и вылезли на другом берегу, километра за два выше того места, где спустились. Это на случай собачьей погони, чтобы затерять след.
Только тогда мы решили отдохнуть и поглубже познакомиться друг с другом.
– Вот, – говорю, – Сидорчук, и закончилась наша неволя. Теперь мы с тобой, можно сказать, советские партизаны.
– Возможно, что и так, – ответил Сидорчук, – только я, – говорит, – не представляю, как это мы будем с тобой партизанить с одной винтовкой и с парой рук на двоих?…
Тогда-то и пришла мне мысль назначить себя командиром. Понимаете, дело тут упиралось не в должность, а в нужность. Кому-то из нас все-таки надо было сделаться старшим, чтобы принимать решения, а другому выполнять их и поменьше разговаривать. Винтовку носить решил я сам, хотя стрельнуть из нее друг без друга мы не могли: один из нас должен был подставлять для ствола плечо.
Все это я сообщил Сидорчуку. Он помолчал немного, а потом и спрашивает:
– Ты в каком роду войск служил до плена?
– В артиллерии, – говорю.
– Я так и подумал…
– Почему? – интересуюсь.
– А потому что привык ты из-за укрытия воевать. Вот и теперь норовишь из-за меня стрелять. Вроде как из-за орудийного щита…
– Ну, – говорю, – щит из тебя такой же, как из моей бывшей руки гуж, это во-первых. А во-вторых, стрелять будем, в случае чего, по очереди. Обойму ты, обойму я. Согласен?
На том и сошлись.
Ночью мы набрели на лесной хутор, бедный такой, со всех сторон ветрам открытый. И так нам захотелось есть, что аж больно стало! Тут, возможно, заговорила долгая наша голодовка в лагере. А возможно, и то, что мы почувствовали подходящий момент достать еду. Трудно установить сейчас, что было главной причиной.
Близко к хутору мы не подошли: побоялись. И в то же время уйти от него тоже никак не могли. Я принял тогда решение – отправиться одному из нас на разведку. Решение, конечно, очень даже правильное, но, вместо того чтобы действовать смело и сразу назначить на это Сидорчука, я начал «голосовать».
– Кто пойдет? – спрашиваю его.
– Наверно, что я, – говорит он, – потому как больше некому. Ты же командир…
Вижу – с обидой говорит он это, а обида в нашем положении штука нехорошая. Я, конечно, догадался, в чем дело: Сидорчук обиделся на то, что я сам назначил себя командиром, понимаете? Но ведь штаба же у нас с ним не было для утверждения меня в этой должности? Как же он, думаю, не постигнет этого?
Ознакомительная версия.