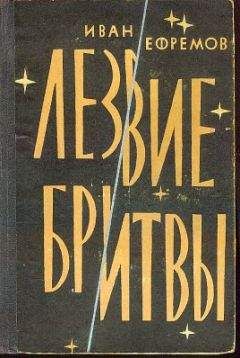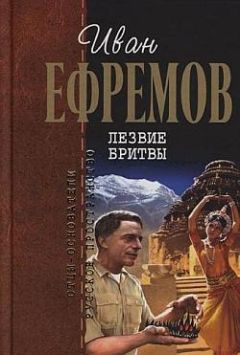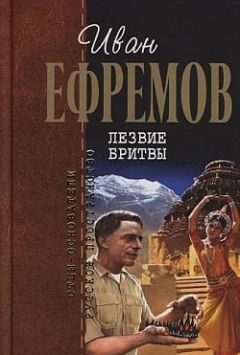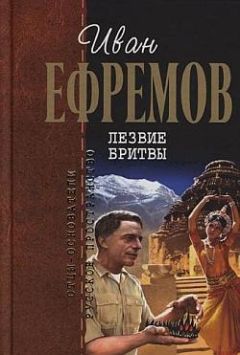Прекрасны были легкие и стройные тела африканок, их гладкие прямые плечи, точеные руки, твердые красивые груди. Сандра, поцарапавшаяся в нескольких местах и разорвавшая кофточку о колючие стебли, почти с ужасом наблюдала, как скользили среди кустарника темные обнаженные фигуры, нисколько не повреждая поразительно гладкой кожи. Передняя девушка стояла совсем близко к Сандре, и та затаив дыхание смотрела на крепкую пружинистую ветку, усаженную шипами адской остроты и длиною больше мизинца, прикоснувшуюся к левой груди девушки. Та, поняв взгляд Сандры, плавно повела плечами. Шипы безвредно скользнули по коже, видимо обладавшей немыслимой для европейца упругостью. Сандра тихо ахнула и протянула руку к африканке, но тут чертыханье, хруст веток и тяжелые шаги возвестили о подходе мужчин. Секунду девушки стояли, прислушиваясь, затем, как по команде, повернули налево и скрылись в кустарнике. Чезаре, Иво и один из пилотов геликоптера замерли, глядя им вслед.
— Пресвятая дева! — воскликнул художник. — В этом солнце, в желтизне трав они словно вырезанные из агата статуэтки!
— Вот они, настоящие драгоценности Африки! — добавила Леа, отбрасывая назад прилипшие к лицу волосы. — Помнишь, Чезаре, мою теорию, что красота родится в трудных условиях жизни? Разве это не подтверждение?
Художник кивнул. Летчик с добродушной усмешкой сообщил на своем плохом французском языке, что ничего особенного эти нгумби не представляют.
— Здоровое племя, разводит немного скота.
— Да, вот эта, передняя, — вздохнул Флайяно, — она имела бы успех! Ее вайтлс, как у американской дримгэрл, я думаю, 37-25-35 — это при росте 166…
— Неужели все понятие прекрасного стало сводиться к этим идиотским цифрам? — спросила Сандра.
— Вовсе нет, я ценю многое другое, и вы это знаете! — осклабился Флайяно. Сандра отвернулась, покусывая губы. Леа сказала:
— Никогда не думала о вас так, синьор Флайяно! Вы мне казались настоящим героем в ваших фильмах!
— А теперь? — Леа промолчала.
Несложный ремонт «Аквилы» был уже закончен, когда Иво, Сандра, Леа и Чезаре вернулись в город. Моряки подружились с портовыми мастерами, и вернувшиеся из саванны нашли всю компанию в живописных позах под тентом на палубе, разучивающую под аккомпанемент двух гитар печальную португальскую песню «фадо» — тоска по родине.
Сразу же после прибытия на судно Иво удалился к себе в каюту, откуда вышел лишь к вечеру сильно пьяным. Леа и Сандра укрылись в каюте, а капитан с художником и лейтенантом занялись игрой «ма-цзян» в рубке. Чезаре вопреки обычаям своего поколения не любил алкоголя, и, как ни странно, оба моряка оказались с ним солидарны. Капитан утверждал, что настоящие люди пьют изредка, но как следует после какой-либо серьезной встряски, а щелканье рюмками по всяким пустякам к добру не приводит.
К счастью, ничего плохого не случилось, хотя Иво искал ссоры то с лейтенантом Андреа, то с художником.
На третий день, увидев присланные счета портовых сборов, Флайяно опомнился, взвыл от негодования и распорядился немедленно выходить в море.
Еще шестьсот миль до Фош-ду-Кунене — маленького поселка и сторожевого поста в устье реки Кунене, откуда начиналась запретная земля Юго-Западной Африки. Моряки решили идти от самой Луанды подальше от берегов, выжимая из моторов все, что они могли дать, и подойти к берегу. Поэтому, если соглядатаи и сообщили о выходе «Аквилы» береговым патрулям, то они не ждали бы яхту так скоро.
Содрогаясь всем корпусом, «Аквила» мчалась к жуткому Берегу Скелетов. Капитан и лейтенант без конца вычисляли и уточняли положение судна, проверяя его всеми возможными способами, ибо от точности подхода зависело все, включая и личную безопасность охотников за счастьем.
От Фош-ду-Кунене до Тигровой бухты (Тигриш-байндуш) и затем до Скалистого мыса (Роки-Пойнт) было всего 188 миль. Южнее Роки-Пойнта, вплоть до Палгрейва, на протяжении ста миль шел прямолинейный однообразный берег. Именно здесь, к югу от мыса Фрио, и была помечена на карте безыменная крошечная бухточка.
Ожидание нервировало весь экипаж «Аквилы», но каждый реагировал по-своему на приближающееся испытание. Флайяно без конца шагал по палубе, то напевая, то молча хмурясь. Чезаре и Леа готовили акваланги, так как становилось все более очевидно, что хозяин не в форме и роль водолазов-изыскателей придется выполнять им двоим. Сандра старалась кормить мужчин как можно лучше, а в свободное время садилась в угол кожаного диванчика рубки, разговаривая с капитаном и Андреа.
Во всю длину штурманского стола протянулась карта, по ней шел зеленый след линии движения «Аквилы».
Сандра очарованно смотрела на таинственное место, отмеченное красной черточкой. Близко подходили к ровной линии берега темно-голубые пятна глубин. В южном конце карты отчетливо выступал тупо закругленный мыс.
— Это уже близко от Кейптауна? — спросила она.
— О нет, — улыбнулся лейтенант, — это всего лишь мыс Крос, в восьмидесяти милях к югу от Палгрейва. От него еще восемьдесят миль до Китовой бухты, там городок и порт, центр района, единственный населенный пункт здесь, и тот стоит на столбах…
— Зачем?
— Наводнения. Здешние сухие русла от дождей внезапно наполняются и превращаются в бурные потоки, низвергающиеся в океан.
— А от Китовой бухты сколько до Кейптауна?
— Вам, видимо, не терпится туда попасть? — пошутил капитан.
— Да, не терпится, — серьезно подтвердила Сандра.
— Ну, если так, — лейтенант извлек мелкомасштабную карту и развернул ее, — видите?
— Ой, это далеко!
— Примерно миль семьсот-восемьсот. Хотите, сейчас скажу точно?
— Зачем? Я и так вижу — суток трое пути… А где здесь совсем запретная зона, где алмазы?
— Смотрите. От Китовой до мыса Консейпшен миль пятьдесят, а дальше все вплоть до устья реки Оранжевой. Приходится стеречь берег. В одной бухте здесь в 1954 году нашли два гнезда алмазов. В одном взяли пятьдесят пять тысяч каратов, в другом — восемьдесят тысяч, и было подозрение, что под водой залегают такие же гнезда. Не удивительно, что скоро они на пушечный выстрел не будут подпускать сюда аквалангистов.
— Сколько же это миль?
— От Консейпшена до Людерица, — ноготь лейтенанта отмечал точки карты, — сто шестьдесят миль, и отсюда до Оранжевой еще почти столько же.
— Следовательно, около шестисот километров, которые могли бы насытить мир алмазами! И никому до этого нет дела! Где же Объединенные Нации, всякие там международные комиссии?
Лейтенант так презрительно махнул рукой, что Сандра рассмеялась.
— Что-то есть очень неправильное в нашей всей цивилизации, и она катится под уклон, как бы там мы не похвалялись перед красными, — грустно сказала Сандра, — главное — это ложь, лицемерие.
— Наследие девятнадцатого века — свойственная всем нам вера в слова. Когда-то слово было словом чести, правды для феодальной аристократии, для купечества. Для престижа это было необходимым элементом общественных отношений. А теперь слово больше вообще не будет ни для кого убедительным. Это серьезный моральный кризис, назревающий в нашей цивилизации. Противно становится жить, теряешь цель и смысл.
— Я вообще не вижу ни цели, ни смысла у вас, молодежи, — вмешался капитан.
— Молодежь ругают по всему миру, — пылко возразила Сандра, — это модно. Понять нас, конечно, труднее. Никому нет дела, что наше сознание раздваивается, раскалывается между грубой реальностью жизни, ее неумолимой жестокостью и той призрачной жизнью, доведенной почти до реальности искусством кино, литературы, театра или политической пропаганды… Что знает средний человек о красоте и многообразии нашей планеты, ее людей, обычаев, искусства, о великом созидательном труде на суше и на море, в горах и равнинах? Что знает он о губительных последствиях необдуманных попыток добыть больше, отдать меньше, об этом всевозрастающем в темпах разграблении природы. В одних случаях от него намеренно скрывают это многообразие, чтобы не дать ему почувствовать убожество собственной жизни. В других — тоже скрывают, стараясь спрятать неумелость хозяев общества и цивилизации.
— Хорошо, Сандра! — одобрил лейтенант Андреа.
— Молодец, Сандра! — эхом откликнулась незаметно вошедшая Леа. — Что, получили, капитан?
— Да… надо сказать, — Каллегари закашлялся, хватаясь за спасительную трубку.
— Надо сказать, — продолжала Сандра, — что люди вашего возраста, синьор капитан, жили уже немало, видели мир, любили, сражались, им есть что вспомнить. А мы? Что ждем мы от жизни под прицелом ядерных всеуничтожающих ракет, под угрозой истребления половины мира, которое обещают безумцы? Разве не лицемерно упрекать молодежь в том, что она не хочет создавать ничего долговечного, стремится скорее взять побольше от жизни? Что мы в Европе не хотим сажать деревья и строить прекрасные дворцы? Сначала дайте нам будущее, такое же долгое, какое было у вас, на всю жизнь, а потом требуйте и упрекайте. Не дадите, то пеняйте на себя, не на нас, это вы такой мир приготовили нам.