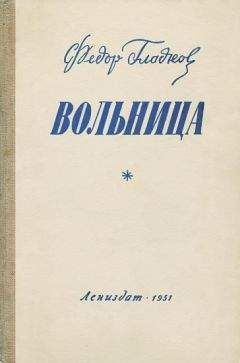Марийка встретила меня сдержанной усмешкой и, работая багорчиком и ножом, пошутила:
— Ну, мальчик-с-пальчик, наработался? Ты, оказывается, и подраться охочий. Хорошо, что тебя Прасковея выручила: она с горя ничего не боится. Этого тебе приказчик не спустит, а матери из-за тебя придётся попрыгать, как рыбке на сковородке. Ну да всё-таки молодец!
Потемневшие и лихорадочные глаза матери смотрели пристально и странно, словно не узнавали меня.
Целый день до темноты я бродил по прибрежному песку. Он расстилался широким и ровным полем и, мерцая, сливался с блистающей полосой моря у горизонта. Небо было бездонно-синее, кроткое, родное, будто оно пришло сюда вместе со мною из деревни. И воздух был такой чистый и прозрачный, что на далёких песчаных курганах отчётливо видны были ветки мелкого кустарника и ярко-зелёные колючки. На одном из курганов стоял коричнево-пёстрый коршун и лениво чистил клювом свои крылья. А по дороге между курганами скакали лошади, запряжённые в одноколки с широкими ящиками на колёсах. Белоштанные девчата сидели впереди на ящике, свесив ноги, и, подпрыгивая на ухабах, шлёпали лошадей вожжами. Это возили с ерика рыбу на промыслы.
С моря дул свежий ветер, тёплый и влажный. Далеко над морем реяли чайки. Мёртвая баржа попрежнему лежала на боку, огромная и таинственная. Направо за нашим промыслом, перед посёлком, на таком же золотом песке бегали мальчишки и голенастые девчонки. И я видел, что они играли радостно и самозабвенно. А я иду по сыпучему песку, к морю, такой же покинутый, как эта баржа, и у меня нет товарищей. На плоту я хотел работать с охотой и облюбовал работу по своим силам и по душе: мне нравилось размеренное перекидывание рыбы. Там, на плоту, много людей, и каждый делает своё дело привычно, ловко, без передышки — все и каждый связаны друг с другом, одна работа зависит от другой: резалки попарно колышутся на скамьях, и руки их проворно повторяют одни и те же движения и багорчиком, и ножом; счётчики, такие как Карманка, бросают им рыбу багром бойко и без промашки; рабочие подвозят на тачках и выплёскивают вдоль плота всё новые блистающие серебром кучи живой, трепещущей рыбы; подбегают другие рабочие с тачками, подгребают широкими черпалками обработанную рыбу и увозят её в лабазы. На плоту много суеты, движения, всюду — говор, песни, смех. Я добился и своего багра, и своего урока, но приказчик хотел только поиздеваться надо мною: мой трудовой порыв он превратил в потеху.
В этот день я не обедал: противно было думать о еде, о людской толчее и духоте в казарме. Ненависть к приказчику и подрядчице гнала меня дальше от промысла. Невыносимо было встречаться с ними, да и опасно: я чувствовал, что такие люди, как приказчик или Василиса, привыкшие властвовать над подневольными людьми, не спустят отпора и самозащиты. От них постоянно надо ждать внезапной расправы. Я никому не мешал и был рад удружить всем, мне хотелось поработать в общей артели, а меня сразу поймал на этом плотовой и думал помытарить Курбатов. Ведь я видел, как он приказал рабочим подвозить рыбу на тачках только ко мне. Он хотел поиграть со мною. Значит, здесь с работницами и рабочими один разговор — толчки плотового, грубая брань, удары багра Курбатова и охальные окрики подрядчицы. И люди сносят это потому, что боятся, как бы их не выбросили с промысла на нищенство и бесприютность. Астрахань далеко, а здесь — море и сыпучие пески без конца и края. Все работают от темноты до темноты, не разгибая спины, и только в час обеда срываются со скамеек, бегут с плота на двор с криками и начинают кружиться и плясать. И я вижу, что кружатся они и пляшут, сбиваясь в толпу, не потому, что им весело, а потому, что болят спины, затекли ноги и одеревенели руки — надо размяться, разогреться, подышать свободно. Под плясовые выкрики все идут к воротам, в казарму, и тормошатся, взмахивают руками, толкая друг друга, извиваются в пляске.
Вечером тоже долго работали при тусклых фонарях, и на плоту в полумраке резалки шевелились, как призраки. А когда дробно и долго заливался колокол — конец работы — и на скамью падали багорчики и ножи, наступала тишина короткого ожидания, и вдруг чей-то голос требовательно запевал:
И все подхватывали с нетерпеливой настойчивостью:
Ах, не пора ли шабашу нам давать,
Шабашу давать, на ужин отпускать?
Все вскакивали с мест, чувствовалось, что эти женщины сейчас свободны, и ни плотовой, ни подрядчица не в силах заставить их дольше работать. Их песня разносилась по двору уверенно, в ней звучал смех уставших, но сильных в своей сплочённости женщин:
Наши щи приустали кипучи,
Нашу кашу во полон взяли,
Чашки, ложки воевать пошли.
И, не дожидаясь разрешения подрядчицы, все скопом, с ножами и багорчиками в руках выходили на двор и толпою направлялись к воротам. Тут они уже не боялись ни плотового, ни Василисы, ни Курбатова, чувствовали себя вольно и распоряжались собою, как хотели. Так же, как и в обеденный перерыв, они начинали кружиться, прыгать, с хохотом и визгами шлёпать друг друга, обниматься, бороться, плясать. Песня не угасала до самой казармы, и слова её, дерзкие и озорные, выкрикивались с разудалым вызовом:
Все пойдёмте щи да кашу выручать —
Чашкам, ложкам воевать помогать.
Плотовому обломаем кулаки,
А с приказчика сдерём-сорвём портки.
Улита сокрушённо трясла головой и стонала?
— Ах, охальницы, ах, безбожницы! И страху-то у них нет… И наказанья-то не боятся, отчаянные…
Но и сама не могла сдержать улыбки.
Поводырём впереди, приплясывая, выкрикивая самые озорные и терпкие слова, всегда шла высокая, небоязливая Прасковея.
На плот я не ходил несколько дней: опасался приказчика и Василисы. Я видел их в казарме каждый день утром и вечером, но там я сидел на своих нарах — наверху — и смотрел вниз, как скворец из скворечницы. В полумраке я перечитывал свои книжки — «Руслана» и «Робинзона». Каждый раз, как только я открывал страницу, мне улыбались милые лица Варвары Петровны и Раисы. Книжки оживали в моих руках и говорили голосами этих женщин. Я встречал и Руслана, и Робинзона, как своих друзей: я сроднился с ними, любил их, и мне иногда казалось, что это я сам в доспехах скачу на коне, сражаюсь с богатырями и побеждаю Черномора или, одетый в козью шкуру, вольно хозяйничаю на острове, доблестно расправляюсь с людоедами и освобождаю Пятницу. Черномор и людоеды превращались то в купца Бляхина, то в плотового, то в приказчика, Наина — в подрядчицу, а Людмила — в Анфису, в Наташу, в мать или сразу во всех женщин в казарме. Меня накрывала необъятная волна сказочных видении и уносила в волшебный мир мечты. Я наслаждался свободой Робинзона и бродил с ним по острову среди густых зарослей невиданных деревьев, где нет ни плотовых, ни приказчиков, ни подрядчиц. Всюду играет солнце в пахучей листве деревьев, поют птицы и разговаривают со мной попугаи, похожие на цветы. Но особенно очаровал меня Руслан, непобедимый витязь. Музыка стихов наполняла мою душу напевами неслыханной красоты и таким волнением, что часто я вскрикивал и стонал от потрясения. Меня будила тётя Мотя.
— Аль ты заболел, Федяша? Ведь от этого нашего хлеба-то да сухой воблы и верблюд занедужит.
Но я торопливо успокаивал её:
— Нет, тётя Мотя, я ничего… Это я книжку читаю.
— Да что это за назола какая, книжка-то твоя? А ты брось её — дай-ка я в печке её сожгу. Видишь, какая от неё вереда!
— Сроду не дам! — негодовал я. — Книжки-то эти к иконам надо ставить, — вспомнил я слова швеца Володимирыча.
Больная женщина на нижних нарах металась в жару И нудно стонала. Тётя Мотя подходила к ней, давала ей пить, накладывала на голову мокрую тряпицу и со скорбным лицом садилась рядом с нею.
Каждый день я заходил в бондарный корпус на плотовом дворе. Это был длинный сарай, который тянулся до половины двора. К нему примыкал склад клёпок и обручей, похожий на плот: под камышовой двускатной крышей на столбах громоздились штабели досок и пучков, тонких ореховых и берёзовых палок для обручей. В просторной мастерской без потолка и в переплётах перекрытий, в ворохах кудрявых стружек, среди клёпок и бочар возились бондари в холщовых фартуках. И обязательно меня встречала разливная песня молодых, задушевных голосов. Бондари славились, как хорошие песенники, их любили за весёлый нрав и шутливость. Да и лица у них были, как у лихачей-кудрявичей, — ясные, жизнерадостные, и держались они дружно и независимо. Резалки часто ходили к ним в казарму послушать и попеть с ними песни и поплясать под гармонию.
Когда я входил в этот размашистый простор сарая, с высокими и широкими окнами в частых переплётах, меня встречала буря грохота, визга пил, тяпанье топоров, барабанный бой молотков и многоголосый говор, смех и песни.