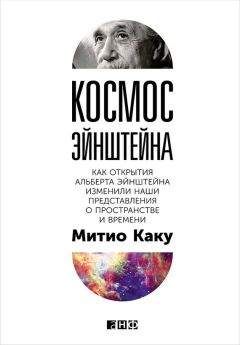Но из прежних друзей и знакомых ни к кому не тянуло. Никого за все это время увидеть не захотел. Иных почти совсем забыл, даже имена их стерлись из памяти. В сущности, встречаясь, перезваниваясь с ними, он не испытывал к ним душевной симпатии, а следовал лишь привычке или каким–то соображениям деловым. Считалось, что много друзей и знакомых иметь хорошо — вот он и имел. К тому же выгодно, практично. Теперь же, когда не нуждался он больше ни в чем, оказалось, что и они ему не нужны. Само по себе это можно было предполагать, но, удивительно, до чего таких оказалось много — практически все таковы. Но чтобы на службу слетать, повидать своих бывших коллег, об этом (живо помня тот сон) не хотелось и думать. Хотя сами по себе и Твердунов, и Евлалия Павловна, и Могильный, и даже вахтер Савельич помнились еще крепко — «контору» свою не только посетить не хотел, но и облетал стороной, если попадалась на пути.
От безделья или еще по какой причине, но больше лирики и сентиментальности стал замечать за собой. Хотелось с кем–то поговорить, кому–то излить душу, хотелось душевного, открытого общения. А оно не только теперь было утопией, но и прежде не получалось ни с кем. Взявшись припомнить, когда за последние годы без всякого повода, без особой нужды, а просто так, по душевному влечению он провел время с кем–нибудь, не нашел ничего, кроме того вечера у Везенина, когда, случайно встретившись, ели тыкву и пили «Эрети».
Вот с Везениным он не прочь бы и сейчас поговорить, хотя именно с ним почти не контактировал тогда, а расстались и вовсе недовольные друг другом. Только в первый раз открытым и дружеским был разговор. А потом, когда рукопись на сцене появилась, все стало иначе — все их встречи и телефонные разговоры как–то сразу превратились в «деловые контакты», в самих отношениях появилось что–то фальшивое, принужденное. И хотя он искренне желал помочь Везенину, с тех пор не совсем доверял. По привычке отнесся настороженно, как редактор к автору, а значит, противнику, с которым надо держать ухо востро. Ему и в голову не приходило, что именно это мешает их дружескому общению — все казалось, не получается, просто времени нет. Как нередко бывало теперь, когда что–то из прошлой жизни, нечеткое, скрытое в подсознании, выступило вдруг ясно и отчетливо, он понял, что хотелось ему поближе сойтись с Везениным, хотелось встретиться, поговорить по душам, но бессознательно все откладывал, сам же этого избегал. Это и делало их встречи с Колей натянутыми, и даже в большей степени, чем если бы совершенно равнодушно относился к нему.
Откуда у Везенина эта уверенность — вот что хотелось бы знать. Живет на гроши, тыкву ест, а спокоен, будто набоб. Престиж на нуле, перспектив никаких, а ему хоть бы хны. Не беспокоится, что соседи презирают, не боится, что Глаша взбунтуется, что дети не будут уважать. «Иммунитет, наверное, — вспомнил он те давние слова Везенина. — Дар природы!..» Ишь ты! Не хвастает, не бьет себя в грудь: вот я, мол, гордый какой! Бедный, но честный! А так, дураку везет. Наплевал на карьеру, остался совсем один — и ничего, не боится… «А может, и в самом деле бояться–то нечего? — иным, теперешним сознанием подумал он вдруг. — Пуганая ворона куста боится… Предположим, ну, встанем на его точку зрения. Разве тебя жизни лишить угрожают? Лишить огня и воды? Да нет, кусок хлеба и крыша над головой у нас каждому обеспечены. В любом случае с голоду не помрешь. Так за что же закладываешь «душу живу»? За то, чтобы больше других иметь? А зачем иметь, если все равно этим не пользуешься? Ну нет у Везенина денег на книги, зато в Ленинке целыми днями сидит, в Историчке. Живет в коммуналке, квартиру приличную не мог заиметь — зато дома уют и порядок… Не такой уж глупый выбор сделал Везенин. Как подумаешь, не так уж и страшен черт… Одиночество?.. А разве другие не одиноки? Это словоблудие, называемое общением, эти однообразные выпивки, компашки — суета одна! Вот Везенин не побоялся одиночества, так у него, по крайней мере, семья есть. Настоящая, а не так для блезиру. Не побоялся на тыкве сидеть — зато свободен, никому не кланяется. Пишет что хочет, живет как вздумается. Во всяком случае, не так уж он прогадал. Есть в его поведении своя логика, своя система. Жаль, что не сошлись поближе тогда, не пришлось потолковать по душам…
Будь он человеком — никаких проблем: позвонил, договорился, сел на метро, и через полчаса у Везенина. Но в теперешнем положении об этом нечего было и думать. Сейчас он мог разве что слетать на Якиманку и в окно заглянуть, примостившись на дереве. Мысль эта просто мелькнула в сознании — но тут же вернулась опять. А что, в самом деле… Заглядывать в чужие окна нехорошо, но ведь у него нет дурных намерений. Его не интересовали чужие тайны, его мучило одно: так ли уж хорошо, так ли уж ладно все у Везениных, как в первый раз показалось. Не было ли здесь какой–то «липы», своего рода игры. Он вспомнил Глашу, стройную, изящную, в этом поразившем его кимоно, вспомнил тот идеальный порядок в доме и усомнился: пусть специально не готовились, но, возможно, попал к ним в благоприятный момент. Вот если заглянуть, когда они этого не ждут, когда не догадываются — сразу станет ясней. «Жизнь врасплох» — усмехнулся он пришедшему на ум киношному термину. Делать все равно нечего, времени вагон, так почему бы не понаблюдать за Везениным, не выяснить, чем он все–таки дышит, как на самом деле живет.
Идея эта случайно взбрела ему в голову и тут же стерлась, забылась совсем. Но когда, путешествуя в один из мартовских дней по городу, он оказался в Замоскворечье и на ограде расписной барочной церкви Ивана Воина сел передохнуть, она вдруг вспомнилась опять. До везенинского дома было рукой подать, и он заколебался. Но дело шло к вечеру, он сильно проголодался, порядком устал, а до родного чердака, где был припасен кусок колбасы на обед, дорога еще дальняя. Хотел уж пуститься в обратный путь, когда увидел вдруг Везенина с Глашей, идущих вдоль кованой церковной ограды по переулку.
Он, вероятно, и не заметил бы их среди других прохожих внизу, шагай они просто, как все. Но они, похоже, ссорились, во всяком случае были возбуждены. Везенин, взвинченный, резко жестикулируя, что–то говорил жене, а Глаша одной рукой держала его за рукав, другой, будто успокаивая, поглаживала по плечу. Встречные прохожие оглядывались на них. Глаша была одета нормально, а на Коле была поношенная телогрейка, мятая шапка–ушанка и тяжелые кирзовые сапоги. В таком наряде он был похож то ли на зэка, то ли на бродягу, случайно забредшего в город, тем более с этим тощим стареньким рюкзаком, болтавшимся за спиной.
Еще не решив, что делать, Вранцов перепорхнул на старый тополь за оградой и притаился в развилке ветвей. Был конец дня, промозглого, серого, полузимнего–полувесеннего, ни то ни се. По дороге в обе стороны мчались потоки машин, разбрасывая жидкий, перемешанный с водой снег на тротуар. Толпы прохожих по обе стороны улицы опасливо жались к стенам домов. По переулку, круто спускавшемуся к реке, сочился, перламутром переливаясь, талый ручеек. В церкви по эту сторону ограды шла какая–то служба: из слабо освещенных свечными огонечками окон доносилось глухо протяжное пение. Кучка темных старух толпилась и крестилась у входа.
Везенины приближались вдоль ограды, и было ясно, что нелегкий у них разговор. Глаша еще сдерживалась, а вот Коля дергался, как безумный.
— К черту! — мотая головой, бормотал он. — Не могу! Уеду! Больше не могу!..
— Ну перестань! — уговаривала его Глаша. — Забудь ты об этом. Хотя бы в день рождения можешь забыть?.. У тебя праздник, а ты как туча. Дети ждут, подарки приготовили. — И, стараясь отвлечь его, улыбнулась лукаво: — Угадай, что я тебе подарю…
— Не знаю, — откликнулся Везенин. — Знаю лишь, что не дороже трояка. Ведь он был у тебя последний.
— Эх ты, именинник! — сказала Глаша. — Сухой, меркантильный субъект. А вот и не угадал. Можешь теперь, когда захочешь, читать и перечитывать свои любимые «Опыты» Монтеня. Все три тома у тебя на полке стоят.
— А деньги откуда? — резко остановился Везении.
— От верблюда!.. — обиженно сказала Глаша. — Ты бы для приличия порадовался сначала, поблагодарил.
— Так, — сказал Везенин, мрачнея. — Медальон свой в скупку сдала?.. То–то я его в коробке не вижу.
— Слушай, это невежливо! — обиделась Глаша. — Ты не находишь, что это дурной тон — расспрашивать о деньгах на подарок? Я, кажется, могу распоряжаться своими вещами.
— А кто тебя просил! — завелся Везении. — Ты что, хотела меня утешить?.. Напрасный труд! Да, мне сорок лет — и радоваться тут нечему. «Первый тайм мы уже проиграли…» И с крупным счетом, могу тебе сообщить. С таким крупным, что отыграться надежды нет. Мне больше некуда с этим податься, — потряс он сумкой, зажатой в руке. — Моя последняя ставка бита!.. Я банкрот! Понимаешь, банкрот!