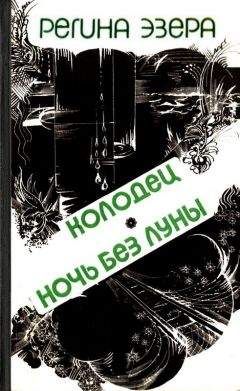Расстояние постепенно сокращается: человек с фонариком продвигается вперед медленно, и вскоре я различаю голоса — значит, путник не один. И немного погодя действительно впереди обрисовываются две фигуры — большая и маленькая. Большая с сумкой или с чемоданом, а маленькая освещает фонариком дорогу. Издали они кажутся детьми, взявшимися за руки, но подойдя ближе, я различаю низкий альт, которому вторит колокольчик детского голоса. Они не слышат моих шагов, под их ногами хрустит и ломается лед, к тому же малышка, как видно, нарочно топает по лужам, потому что за звоном раздается смех, а альт говорит:
— Дайна… не надо… порежешь сапожки!..
Внезапно мне в глаза бьет свет, неожиданный и потому резкий, и, ослепленный, я слышу детский возглас!
— А дяденька не цыган?
Что ни говори, а в голову все же шибает. Ну да, косушку почти раздавил. Часы бьют половину одиннадцатого. Ясное дело, еще без трех-четырех минут, а это старое ботало, как всегда, спешит. Гудит, как в пустой бочке. И душа не на месте. Хорошо, что я пропустил малость, а то просто хоть волком вой. Как Алиса будет жить в Патмалниеках одна, когда я уеду? Ну, в конце концов это ее дело. Жива будет, не помрет. Я бы давно уж был отсюда на расстоянии пушечного выстрела. Но ничего не попишешь, поезд идет только под утро: хоть плачь, хоть пляши, а часок еще придется тут покуковать. Когда Алиса воротится из Цесиса, я буду уже в Риге, потом первым автобусом махну в Вецумниеки. Чего там, в святом писании, отец заколол в честь своего блудного сына? Ага, теленка. Ну, телка Эмма, хе-хе, на радостях не заколет, а насчет чего другого…
Выливаю из бутылки в рюмку последки и с расчетом отпиваю только половину. Скажи пожалуйста, и сам не думал на прощание такой мини-выпивон сообразить. А началось как всегда ни с чего…
За дверью мяукает кошка. Я допиваю остаток и встаю — надо впустить. На дворе темень-тьмущая и тишина. Иной раз в эту пору хоть товарняк прогромыхает мимо станции или по дороге проползет грузовик. Тогда хоть чувствуешь, что и кроме тебя есть на свете люди, что ты не один. Брр, тихо, как в кастрюле под крышкой! Кошка трется об ноги.
— Ну, Брыська?
Хочет, чтоб ее погладили. А я и без того сегодня наломался у Карклиней с полами, поясницу не разогнуть. То ли к старости дело идет, то ли к перемене погоды, пес его знает. Впускаю Брыську на кухню, а она мяучит и мяучит. Наверно, жрать хочет, старая перечница. Придется слазить в кладовку. И то сказать, самому тоже не грех чего-то пожевать.
Хлеб, масло, творог…
— Цыц, Брыська, ишь завякала!
…сало, яйца…
— Молоко пить будешь?
А то нет! Чего бы себе-то достать? Алиса обещалась привезти из Цесиса хорошей копченой колбасы. Н-ну, теперь это отпадает. В Риге пойду на Центральный рынок, в павильон, и налопаюсь до отвала сарделек. Холодненькое шипящее жигулевское под сардельки с горчичкой, эх! Пока это еще мечта, но только до утра. А жрать охота еще сегодня, и хочешь не хочешь придется жарить распроклятую яичницу, которая мне обрыдла, затоплять плиту и канителиться, да времени еще до черта. Затопляю плиту, нарезаю сала от самого толстого куска, чуток кидаю на пол Брыське, разбиваю на сковороду яйца, сперва два, а потом и третье. Больше не надо, человек же не свинья. Яйца фырчат, вкусно жарятся, закусон первый сорт, хорошо, что я не поленился. Не вредно бы еще хоть на донышке чего-нибудь покрепче. Карклини на прощание как нищему сунули в карман пальто косушку самой дешевой водки, только раздразнили. Теперь в глотке просто пересохло. Деньги-то есть, еще целехоньки те пятьдесят рубликов, — а где возьмешь водку? И то сказать, нету в ней, в жизни, ни складу ни ладу. Ходишь ты, бывало, вдоль прилавка, глазеешь на бутылки и бутылочки с ясными бочками, да в кармане у тебя звенят один медяки, а того чаще — не звенит ничего. Сейчас звонкая монета есть, да… Черт побери, сало горит! Быстро хватаю сковородку с огня и собираюсь есть прямо так, потому что Алиса ругается, — только зря, говорит, переводишь посуду. А кто я есть? Собака, что ли, чтобы мне жрать со сковородки? Теперь все, сударыня, откомандовалась!
Прохожу в комнату к буфету, вынимаю хорошие тарелки и чашку с золотой каемочкой. Сегодня вечером все буду делать так, как вы не разрешаете, уважаемая. Стол накрою в комнате хорошей посудой и на белой скатерти — как в ресторане.
Дверца шкафа отворяется со скрипом. Простыни и полотенца, наволочки… Где же скатерти? Шарю в белье, пальцы натыкаются на что-то твердое и круглое. Не веря в свое счастье, выворачиваю из ящика простыни, прямо руки дрожат. Отченашижеесинанебеси, румынский ром! И только початый!
Наконец сбылись мечтанья,
Что лелеял втайне я…[4]
Пою громко, расстилая белоснежную крахмальную скатерть. Брыська вскакивает на диван, смотрит круглыми зелеными глазами: прогоню или не прогоню?
— Валяй, валяй, старая перечница! Сегодня хозяин тут я. Ну, со свиданьицем!
Отхлебываю прямо из горлышка. Ух! Потом произвожу небольшую ревизию в недрах буфета. Ничего питейного там, как и водится, нет, но — и то сказать — человеку и не к лицу жадничать. А, печешки! Немножко, правда, припахивают — застарелые, но ничего, не помру, какой только дряни есть и пить не приходилось на моем веку! Сам удивляюсь, как я ноги не протянул. Баночка кофе… Хе, это же надо, у меня будет даже натуральный кофе. К нему бы лимончика! Жалко, что Алиса не растит лимонное дерево. Подошел бы к нему — чик! — и нарезал душистыми ломтиками. На подоконнике в горшке стоит всего один цветок, какая-то курелла-мурелла — никак не вспомнишь название. Так на этой самой мурелле распустился один задохлик — колокольчик, на который Алиса все не наглядится. Я колокольчик отщипываю и ставлю в маленькую скляночку. Теперь еще сахарницу, вилку… пахнет хорошим кофе и ромом. Ресторан!
Надеваю пиджак. Не то чтобы мне холодно, нет, печка раскалилась, как утюг. Просто хочется, чтобы сегодня вечером все было честь по чести. Потом перекидываю через руку чистое полотенце, как обер, и говорю самому себе с поклоном:
— Милости просим к столу!
Подхожу к зеркалу, репетирую еще раз:
— Прошу к столу!
Ниже, ниже, что это спина не гнется, что в ней — волчья кость, что ли? А ну еще разок! О черт, поясница!
Подноса в Патмалниеках нет, достаю из буфета блюдо для жаркого, ставлю на него бутылку с ромом и протягиваю над столом.
— Извольте!..
Отшвыриваю полотенце, важно надуваюсь и с видом занятого человека буркаю:
— Иду!
Сажусь за стол: откупориваю, наливаю в рюмку — ваше здоровье! — и опрокидываю разом.
Кошка, закрыв глаза, дремлет, только меленка ее тихонько жужжит и жужжит. Зеркало повторяет каждое мое движение. Разглядываю себя. М-да, потрепанный, замусоленный, не больно-то новый костюм. Вот если б заявиться в Вецумниеки к Эмме в новом костюме — мне пойдет синий в узкую полоску, — в белой нейлоновой рубашке, с бордовым галстуком. Не стар ведь я еще — и не урод какой-нибудь. Сходил бы к парикмахеру, пускай побреет шею, побрызгает одеколоном. В Вецумниеках, или нет — лучше в Риге, туда заявлюсь свежий как огурчик. Соседи меня, поди, сразу и не признают: хе-хе, пойдет шепоток — к Эмме хахаль пожаловал, пока Волдемар в отъезде…
Опять бьют часы. И я падаю с неба на землю. Зачем строить воздушные замки! Я кланяюсь в зеркало:
— Пожалуйте, жаркое стынет!
Но теперь и самому мне это кажется просто дурачеством. Каждая щетинка на щеках, вытертые рукава, заношенный воротничок — все видно как в увеличительное стекло. Наливаю — рука, будь она неладна, дрожит, будто я нищего ударил. Как выпьешь, тогда перестанет.
Выпиваю. Ух! Ром обжигает глотку как огонь! Теперь можно и закусить, хотя «жаркое» уже малость простыло.
Чтобы опять не полезла в голову пес его знает какая нелепица, стараюсь вспомнить, когда мы с Алисой вдвоем этот ром распечатали. Ага, когда я вернулся в дождь, промокнув до нитки. Малярничал я у Олманов, Кристина еще предложила мне зонт, а я, дурак, не взял… И Алиса раскупорила этого румына и налила мне две рюмашечки, чтоб я не слег от простуды. О господи, я прямо обыскался потом начатой бутылки — в кладовой, в буфете, в погребе! Разве я бы когда додумался, что она запихала ее в шкаф за скатерти? Ни в жисть! Теперь буду знать Алисины плутни. М-да, теперь-то мне это больше ни к чему…
— Ну, Брыська, за твое здоровье!
Услыхав свое имя, кошка чуть приоткрывает щелочки глаз, смотрит.
Ух ты! Кубинский ром вроде бы лучше, а этот отдает политурой. Но не будем плевать в колодец. И яичница не того — пережарилась, но тут никто не виноват. Какие только подошвы на своем веку я не едал, шатаясь по белу свету, господи боже мой! Да хоть тогда, в Инчукалне, с блинами было дело. Вдвоем с маленьким Фридисом спустили мы аванс, напекли блинов на трансформаторном масле, а потом всю ночь глаз не сомкнули: напеременку гоняли на двор, держась за порты. Всякое бывало, да…