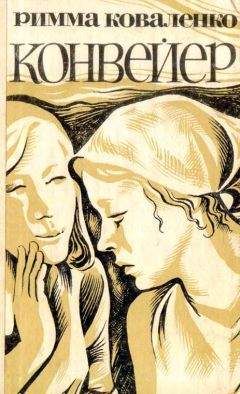Поставив свой «Москвич» в рядок разноцветных машин у заводоуправления, Валерий Петрович, сдерживая шаг, направился к проходной. Не будь в эти минуты людской волны, он бы побежал — так велико было нетерпение оказаться в цехе, увидеть, почувствовать, ноздрями втянуть запах нового конвейера.
Художникам природа выдает необыкновенное зрение: они в одном цвете могут увидеть огромное количество оттенков; у тех, кто создает одеколон и духи, наверняка особое обоняние. Нос Никитина был уникальным по части машин: он различал их запахи. Валерий Петрович сам перед собой стеснялся этой способности, но что делать, если пресс-автомат на линии штамповки, за которым он сидел два года, пах новыми ботинками, а ЭВМ «Минск-32», рассчитывающая координаты для пробивки отверстий, издавала запах кофе. Конвейер Соловьевой, любимый когда-то, к которому он охладел, мечтая о новом, благоухал изысканно, как симфонический оркестр перед концертом. Когда по рекомендациям отдела научной организации труда после обеда включал музыку Чайковского, Валерий Петрович прикрывал глаза, и ему казалось, что это струится музыкой сам конвейер. Татьяна Сергеевна в одну из таких минут чуть не разоблачила его:
— Вы так внимательно слушаете музыку, что даже нос у вас слушает. — И тут же, не догадываясь о том, что раскрывает ему связь тележечного конвейера с симфоническим оркестром, спросила: — Вам не кажется, что вытяжка халтурит? Даже в конце цеха чувствуется запах канифоли.
Новый конвейер, когда и запах краски на встроенных столах монтажников улетучится, сохранит для Валерия Петровича запах новой квартиры. Замечательной, просторной новой квартиры, в которую еще не внесли мебель, но уже обдумано, где что будет стоять, хозяину уже выделен кабинет, священный и неприкосновенный для других членов семьи. Валерий Петрович жил с женой и сыном в маленькой квартирке из двух смежных комнат, просторная квартира маячила впереди несбыточным чудом, и запахи ее без труда вобрал в себя новый конвейер. Никитин ревниво поглядывал на технолога Багдасаряна, который был назначен ответственным за «объект», страдал, когда к Багдасаряну в первую очередь обращались представители проектной организации, напоминал Вигену Возгеновичу, что тот временный начальник и не должен забывать, кто здесь в цехе по-настоящему ответствен за конвейер. Багдасарян, разгуливающий по цеху в голубом костюме, мучил его каждый день одним и тем же вопросом:
— Какая же это реконструкция? Это же совершенно новый объект! Валерий Петрович, вы должны в этот вопрос внести ясность.
Ясность была. Технолог нарочно, чтобы вывести из равновесия начальника цеха, напускал тумана. Новое строительство — будь это возведение дома или конвейера — всегда одни голые затраты: особый проект, особая смета, изволь подать производственные площади и все, что положено для нового строительства. А тут — реконструкция. Разобрали, разнесли по частям старенькую кустарную линию, и на ровном пустом месте началась «реконструкция». И никому она, пока шла, поблажки не давала. Никто не пикнул, что план старенькой линии пораскидали по частям на другие, что треть площади из-за всяких механизмов для нового конвейера, по существу, была вычеркнута из жизненного пространства цеха. И только Багдасарян щурил свои круглые глаза и мучил начальника цеха:
— Какая же это реконструкция?
— Когда станешь директором завода, — отвечал Валерий Петрович, — тогда я у тебя об этом спрошу.
— Главным технологом, — поправлял его Багдасарян, — потом министерство. Наш директор и все остальные будут показывать пальцем в потолок и говорить: вот там наш Багдасарян.
Иногда Валерий Петрович не выдерживал и на вопрос «какая же это реконструкция?» срывался на крик.
— Вот такая! — кричал. — Такая, такая, от которой выигрывает дело, а не ваша формальная логика! Конечно, лучше бы закрыть цех, все поменять, все довести до полного модерна! Сидели люди без цветных телевизоров и еще посидят! Завод весь закрыть, все выкинуть и заменить новым! Тогда у Багдасаряна не будет вопросов. Тогда все, что он выучил в институте, сойдется у него с жизнью. Но если бы мы так строили, если бы реконструкция была такой, как вам хочется, ты, Багдасарян, никогда не имел бы к ней никакого отношения. У тебя не было бы диплома. Государство не могло бы тебя учить бесплатно. А в собственном кармане вряд ли бы нашлись такие деньги.
У Багдасаряна, когда начальника цеха заносило, хватало выдержки не лезть на рожон. Он с достоинством произносил: «Я об этом подумаю» — и переходил к рабочим вопросам.
После таких стычек у Валерия Петровича оставалось чувство вины перед Багдасаряном. Не совсем обыкновенный человек Виген Возгенович. Никто не поверит, глядя на его благополучную, звонкую, как мяч, внешность, в какой передряге побывал технолог в детстве. Сам начальник цеха узнал об этом из статьи в заводской многотиражке и с тех пор после каждой стычки испытывал отцовские угрызения совести, будто обидел, занес руку над мальчуганом, который хоть и довольно давно, но чудом живет на свете.
…В сорок втором, выбив фашистов из села Заикино, наши бойцы нашли замотанное в тряпки живое существо. Это был мальчик лет двух с небольшим. То ли он был позднего развития, то ли стрельба и взрывы снарядов тому виной, но среди нескольких слов, которые он произносил — «мама», «дядя», «дай», «баба», — не было его имени. Он вытягивал два пальца, когда его спрашивали сколько ему лет, и кивал головой, соглашаясь с каждым именем, которое пытались угадать солдаты: Ваня? Коля? Володя? Старшина артбатареи Багдасарян понес мальчонку в штаб полка и уговорил начальника строевого отдела выдать справку, по которой мальчик по имени Виген считался бы сыном Возгена Ашотовича и Асмик Вардвановны Багдасарянов. Справку такую выдали, с ней и должны были отправить маленького Вигена в тыл. К справке старшина приложил два письма, в первом просил работников детского дома отправить мальчика Багдасаряна в его селение, второе было адресовано жене с просьбой беречь мальчика, как собственного сына. Полк отступал. Батарейцы, бредя по колено в грязи, погоняли измученных лошадей, порой разворачивали орудия, чтобы отбить наседавшего противника. В одном из боев погиб старшина Багдасарян, мальчишка осиротел во второй раз, и детство его прошло в детдоме. Только через много лет, уже отслужив в армии, Виген Багдасарян вдруг почувствовал неодолимое желание узнать, кто он на самом деле, есть ли на свете у него родные. Написал в детский дом; оттуда и прислали ему его личное дело с письмами старшины и справкой, выданной начальником строевого отдела. Написал письмо в селение Арташекс, неизвестной своей матери Асмик Вардвановне, ответили, что она умерла. Съездил в село Заикино. Никто не признал его: чужой был вид. Таких большеголовых, лупоглазых у них ни до войны, ни после войны не было. Только одна старуха, вглядевшись в него, сказала:
— Гомонок твоя фамилия. Кузнецы здесь были Гомонки, из рода в род все Гомонки — кузнецы. Этих, которых ты сын, поодиночке фашисты поубивали. Мать в сельсовете вместе с другими сожгли. Она, видать, тебя по дороге, когда сгоняли, в канавку и выкинула. А отец — или в партизанах, или на фронте погиб. У него вот, как у тебя, шеи не было, голова наполовину в плечах сидела.
Он не поверил старухе. До войны она жила в соседней деревне, Гомонки, вполне возможно, были кузнецами, но он не был их сыном. И тут же другая древняя старушка подтвердила это.
— У Гомонков детей не было. Она перед самой войной лечиться ездила, да уж родить никого не успела.
Виген Возгенович покинул родную деревню без боли в душе. Пусть все будет так, как есть. Нет у него родни: ни русской, ни армянской. Оттого, наверное, что рос он без семьи, и в мечтах его не посещала собственная семейная жизнь. Со страхом задумывался он о том, что ему, как всякому мужчине, положено жениться. Угнетало, что женщина, которая станет его женой, будет дома все время у него на глазах. А он, помня дисциплину и коллективное житье в детдоме, любил полежать в одиночестве с книжкой, любил в выходной поспать до двенадцати. Он бы уже давно женился, если бы у невесты была отдельная квартира. Она бы жила у себя, он у себя. Дети? Он не долго ломал над этим голову. Дети — в недельном детском саду.
В субботу и воскресенье, если не будет дождя, в заводском пионерском лагере были запланированы такие залпы, эхо которых, докатись оно до руководителей других цехов, несомненно, повергло бы их в смятение. Почему в третьем сборочном додумались, а мы не додумались? Да потому, что в третьем сборочном профорг Наталья Ивановна Шарапова. Она еще зимой пришла к Никитину, спокойненько положила ему на стол план этого далекого, а потому и приемлемого мероприятия, и начальник цеха план, естественно, подписал, и все после этого пошло-поехало, закрутилось, заиграло и запело. Когда начальник цеха спохватился, остановить колесо, которое пустила не столько с высокой, сколько с долгой горы Наталья, было уже невозможно. А Никитин чуть волосы на себе не рвал.