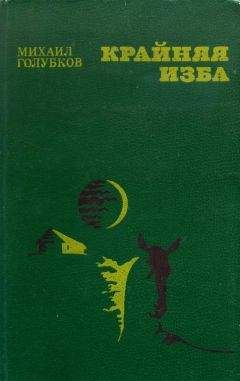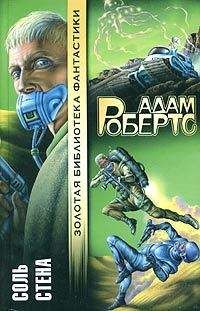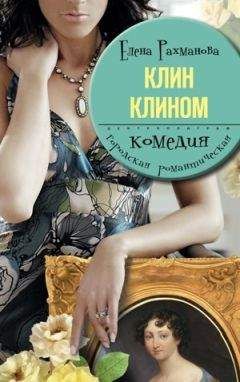Следует прямой, строгий вопрос:
— Выпиваешь?
Мужик огорошен, скребет пятерней затылок:
— Случается, есть грех… Но опять же, какой я мужик без этого?
— Тут, поди, и буйный?
— Упаси боже. Смирнехонек я, когда выпимши… Прихожу, сразу спать. Покойница Дуся все меня, пьяного-то, чем попадя взвазживала… Ты ее помнить должен, она в Воробьевке продавщицей работала… Да, бой была баба, что говорить… И ведь моложе меня, а вот не убереглась… — Быстро, будто оправдываясь, мужик поясняет: — Болела она перед этим долго. Износилась в войну с детьми… сама не доест — все им. Я с фронта пришел, и то здоровше был, хоть и раненный дважды.
Подпасок пытливо вглядывается в мужика, что-то, едва уловимое, начинает теплиться в нем. Он говорит сбивчиво:
— Охота тебе связываться с нами?.. И хлопот ведь, и забот не оберешься… Я учиться еще собираюсь. Кончу десять, в институт поступлю.
— Вот, вот, — подхватывает мужик, — ты в институт, да и после еще неизвестно… а мать тут кукуй одна. Нынче ведь детки как? Оперился — полетел из гнезда. У меня вон трое, а кто где? При мне ни одного нету. Все разлетелись… Я понимаю, нет здесь вины вашей. Время теперь такое, жизнь другая… Мы вон раньше что, окромя земли, знали? — Мужик бросает окурок, растирает его носком сапога. — А вас и в космос-то, и черт-те куда тянет.
Солнце меж тем скатилось к горизонту. Кусты на той стороне реки кинули в воду длинные тени. Заметно посвежело. Коровы успокоились, широко разбрелись по полю. В лугах дружно и трескуче бьют коростели.
Угасает стрижиный гам над рекой. Птиц все меньше и меньше. И не так уж изломан и стремителен их полет, их падение с высоты на воду.
— Так что будем делать, Петро?
Парнишка отмалчивается, не поднимает глаз. Ковыряет кнутовищем землю.
— А, Петро?
— Мозговать будем, что делать, — бормочет подпасок. — Тут сначала мозговать и мозговать надо… Время нужно. С матерью разговор.
Он отворачивается, отходит и, устроив настоящую пальбу кнутом, сурово и басовито покрикивая на коров, идет вокруг стада.
День этот опять начинается с Петрухиного рева: его отец с матерью собираются на работу в село Большаково, за шесть километров от их хутора, и Петрухе снова одному оставаться.
До нынешней осени, пока не умерла бабка Маринья, Петруха жил себе и горя не знал. Что из того, что бабка последнее время почти не вставала с постели? Было хоть поговорить с кем. А теперь — целыми днями никого рядом. Заревешь тут.
И зачем умерла бабка, жила бы да жила на здоровье Петруха, так и быть, слушаться б ее стал, все бы исполнял что бабка ни прикажет: не мучить, скажем, кота, так не мучить; не дурить, не носиться сломя голову по избе, так не дурить, не носиться.
Бабка, наверное, зимы испугалась. Мерзла всегда она, даже летом, в самую жару, валенок не снимала. Но в избе ведь, если протопить, и зимой теплынь. А если еще на печь забраться — совсем хорошо! Нет, дождалась осени и померла. И с Петрухой не посоветовалась. Петруха бы отговорил бабку.
— Ну хватит, хватит… — успокаивал отец. — Вот на лето переедем в Большаково, в детсад определим тебя… А там глядишь, и в школу наступит пора. Вон ты какой большой у нас, совсем уж мужик.
Петруха не унимается. Ему хоть и приятно, что он «совсем уж мужик», но быть одному весь день все равно не хочется.
— Днем корову напоишь и корма задашь, — наказывает озабоченно мать, — пойло в ведре приготовлено… Да смотри, одевайся потеплее, как на улку пойдешь. И от дому, ради бога, далеко не бегай. Слышишь? — Уже у порога она спохватывается: — Лампу, как светло станет, задунь. Не забудь, сынок. Ладно? Не спали избу… Еда на столе.
И отец с матерью уходят, впустив в избу холодное облако и крепко прихлопнув за собой дверь.
Проскрипел морозный настил во дворе, звякнула щеколда, хлопнула калитка, стылая земля гулко и долго отзывалась под сапогами отца.
Но вот и шаги стихли, истаяли до тонкого, едва различимого хруста, до глубокой тишины вокруг. Теперь хоть заревись — никто не услышит.
А раз некому слышать, некому пожалеть тебя, то и реветь неинтересно.
Петруха умолкает, смазывает кулаком слезы, ходит по избе в поисках, чем бы заняться?
На улицу еще рано идти. Вот когда стрелки ходиков не будут висеть вниз головой, а на боку окажутся, а то и подниматься начнут, тогда в самый раз задувать лампу, натягивать одежонку и бежать со двора.
Пока же за окнами непроглядная темень, и не скоро еще, видно, светать начнет.
Гирька ходиков, тяжелая железная шишка, вздернута к самому маятнику. Это ее отец каждое утро подтягивает, потом она целый день помаленьку опускается.
А что, если гирьке подсобить малость?
Петруха подтаскивает табуретку, взбирается на нее, хватает шишку рукой, вниз тянет. Маятник зачастил, задергался, бегут наперегонки стрелки. Большая сразу же обошла маленькую, сделала круг — и снова обогнала. Ничего удивительного. Большая, она и должна быстрее бегать. Коська Сорокин вон больше Петрухи, так за ним разве угонишься.
Стрелки ходиков ложатся набок. Петруха прыгает с табуретки и бежит к окну. На улице должно быть светло, раз часы показывают «на боку». Им даже отец с матерью верят. По часам спать ложатся, по часам встают и корову доят.
Но за окнами по-прежнему ночь, слабое мерцание звезд, тление высокого месяца на ущербе.
Петруха оглядывается на часы. Те идут, тикают как ни в чем не бывало.
— Вруши! — выговаривает им Петруха. — Все, больше я с вами не играю. — Он тяжко, по-стариковски вздыхает. — Вздремну-ка я лучше на бабкиной кровати, подожду утро.
Бабкина кровать в дальнем углу, под небольшим, в три иконки, иконостасом. Загадочные, скорбные лики святых смотрят оттуда на Петруху.
Петруха, однако, бесстрашно разбегается, прыгает. Ух, какая это огромная кровать! Без бабки она кажется еще шире, еще просторнее, хоть на голову становись.
Долго и безуспешно он пытается встать на голову. Оттолкнется, подрыгает ногами вверху — опрокинется на спину. Передохнет чуток, и снова — только кровать ходуном ходит.
Намаявшись, наломав шею, Петруха лежит, уткнувшись лицом в подушку, прислушивается к дому, к дыханию ночи за стенами, к громкому сейчас стуку ходиков, к звонкой капели в тазик под рукомойником — один все-таки дома, боязно. А вдруг кто-нибудь из-за печки выйдет, а вдруг он уже стоит посреди избы, высоченный такой, с бородой до полу? Обязательно почему-то с бородой. И с мешком за плечами. С мешком для него, для Петрухи.
Сердчишко у мальчонки сжимается, тело становится ватным. Он бы закричал, да голоса нет, скулы свело; он бы вскочил и бросился из избы — да руки-ноги не слушаются.
Чуть спустя мальчик набрался-таки храбрости, приподнял голову. Фу-уф! Никого, слава богу, нет. Пусто в избе. Лишь старый, ленивый кот Ферапонт сидит на лавке. Коту и невдомек, коту и дела никакого нет до страха мальца.
Петруха опять дурашливо фыркает, смеется в подушку.
Подушка еще бабкой пахнет, хоть мамка все перестирала на кровати. Кажется, что бабка только что встала и отлучилась на минутку. Кажется, что она вернется вот-вот и приляжет рядом.
Петруха сворачивается клубком, лежит, угревшись, утихнув, следит за бесноватой игрой бликов на стенах от керосиновой лампы.
Бабка наконец является: склонившись над Петрухой, стоит такая родная, такая близкая. Тянет Петруху за рукав бабка, говорит что-то — не разберешь что, зовет куда-то — не разберешь куда. Мальчонка послушно сползает с кровати.
И вот уж они в поле, за хутором. Петруха шустро вышагивает впереди, покрикивает на бабку, торопит. В руках у обоих по лукошку — у бабки большое, у Петрухи маленькое, — идут по землянику.
В поле ни ветерка, ни облачка. Нещадно палит солнце. Пыль на дороге горячая-горячая, ногам больно.
А вот и лес, большой, сумрачный, прохладный. Таинственный, немного пугающий Петруху лес!
Только вошли, бабку подменили вроде: быстро, без остановок, без отдыха трусит помолодевшая бабка. Петруха едва поспевает за ней.
Выходят на солнечную душистую полянку, сплошь усыпанную крупной земляникой. Оба опускаются на колени, ползают, вытеребливают из травы спелую ягоду.
Скоро в лукошке у Петрухи с верхом, некуда класть.
— Баб, у меня полное!
Бабка не отвечает, не оборачивается, длинные костлявые руки ее стелются над поляной. Страшные руки. Когда они успели вырасти так?
— Баб, ты че все не кажешься?
Петруха обегает бабку, глядь — а это и не бабка вовсе, а какая-то совсем незнакомая старуха, кривая и горбоносая.
— А-а-а! — в ужасе кричит Петруха и, бросив лукошко, несется что есть духу прочь. Бабка за ним. Петруха уж слышит за спиной ее учащенное сопенье. Сейчас она поймает Петруху.