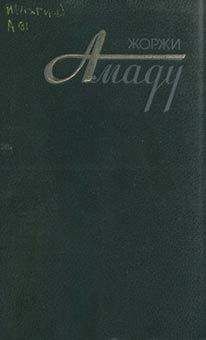— Ну хорошо. Чините скорее мотор.
Опаздывать было нельзя. Командарм летел на юг, к морю, где его ждал флот, готовый выйти в осеннее учебное плавание.
От единственной избы на берегу отчалил старый челн. Человек на нем греб стоя.
Челн подошел к самолету, и человек крикнул с челна командарму:
— А я дивлюсь: який журавель прилетел до нас с неба? Що воно, думаю, и яка в том причина? Должно, поломались, землячки?.
— Ничего не поломались, — ответил летчик.
— Ну-ну, — добродушно согласился лесной человек. — Нехай будет по-вашему. А вы, часом, не из Москвы?
— Из Москвы, — ответил командарм.
— Ну, седайте в челн, будете гостем, хоть хата моя и не дуже богатая. Я полесовщик здешний.
Командарм сел в валкий, полный воды челн. Летчик остался чинить машину.
На берегу командарм оглянулся на леса, быстро ставшие печальными и золотыми от заката, вдохнул запах вянущих трав и улыбнулся.
— Хорошо тут у вас! Охота, должно быть, богатая?
— А в Москве, мабуть, лучше, — сказал лесник.
— Ну что ж, поменяемся, — пошутил командарм.
— Чистый смех! — сказал лесной человек. — Тут я знаю, где какая птица перо загубила. За самую за райскую жизнь я этого леса не кину.
Командарм прошел в избу, На стене были приклеены портреты, вырезанные из старых газет. Среди них рядом с портретом Шевченко командарм увидел себя; он был изображен молодым, улыбающимся. Командарм снял фуражку, провел широкой ладонью по седым волосам и сел на лавку. Лесник полез в подпол за молоком и сыром.
Из темного угла послышалось заунывное жужжание. Командарм оглянулся: на полу сидел старик со светлыми слепыми глазами. Отполированная сотнями нищих заскорузлых рук украинская лира лежала у него на коленях. Старик медленно поворачивал костяную ручку, деревянный треснувший валик вертелся, терся о струны, и они глухо жужжали.
— Ты здешний, отец? — спросил командарм.
— Не, я из-за Припяти. Иду на Чернобыль, на Киев; як силы хватит, дойду до самого моря.
«Странный старик», — подумал командарм. Лира жужжала все так же тихо и заунывно.
Вошел лесник. Он поставил на стол кувшин с молоком, положил краюху черного хлеба и рассказал, что убогий этот старик пришел из-за Припяти. Его привел мальчик из соседнего колхоза и тотчас ушел.
Теперь надо бы проводить старика до Чернобыля, но все некогда.
Идет старик без поводыря. Где теперь взять поводырей, когда все дивчата и хлопцы бегают в школу? Так и пробирается один к морю, а зачем — неизвестно; говорит, к дочери.
— Ты бы мне спел, отец, — попросил командарм, разламывая черный х*сб и макая его в кружку с молоком.
— Спасибо на ласковом слове, — ответил старик, — Теперь народ пошел торопливый, не слухает старые песни.
Старик помолчал.
— Спою я тебе думку, что сложили про меня, про старого Колдобу, сирые слепцы, покалеченные люди, — сказал спокойно старик, и командарм невольно вздрогнул. — Слухай тихонько.
Старик снял шапку и долго молча жужжал на лире.
Як бурьян на шляхах вянет да пылится, —
сказал он печально, —
Так и сердце сохнет от людской обиды.
Як вода на речке льется, уплывает,
Так и слезы льются, их никто не чует.
Лира стихла. В наступившей тишине старик сказал просто и громко:
Ой, жила на свете сирота-небога,
Тай пришлась сиротке трудная дорога.
Мать се не мыла, волос не чесала,
Корку хлеба с салом, борща не давала,
Бо в могиле маты третий год лежала.
Лира снова зажужжала громко и томительно.
Тай коров пасла та сирота у пана,
Ночевала, бидна, посередь бурьяна.
Грозы по-над степью ходят чередою,
Молнии полышут над сухой травою.
Слепец рассказал, как гроза разогнала стадо в степи, как потеряла девочка лучшую корову и как хозяин выгнал ее ночью со двора и не дал даже куска хлеба:
И пошла сиротка, слезы утирав,
Мать свою с могилы даром выкликав.
Доля человечья слезами полита,
Доля человечья тоскою повита,
Доля человечья богом позабыта.
Старик опять помолчал. Скрипела лира.
— Слухай, сердце мое, — сказал старик командарму. — Немає на свете гирше слез, як слезы сиротыны.
Он прижал струны и снова заговорил:
Так бежит сиротка, а куда — не знае.
Тай на шляху ночью казака встречав
И тому казаку все оповидае.
Взяв казак сиротку и довел до хаты,
Где господовала его стара маты.
И сказав казаче матери: «Горпына,
Я знайшов на шляху небогу-дивчину.
Будь же ей, старуха, як родная маты,
Я ж пойду до пана два слова казаты».
Лира зажужжала торопливо, и старик запел грозным голосом:
То не грозы в небе ходят да играют —
То господски хаты огнем полыхают.
Ще не вмерла правда та холопска сила,
Ще не зарастав панская могила.
Гей, вставайте, люды, со степей та гаев!
Гей, вставайте, люды, кто щастья не мае!
Шуми, Украина, повстаньем та свистом,
Бренчи, Украина, блискавым монистом,
Бо идут холопы ратуваты волю,
Отбывать! землю, добуваты долю!
Лира еще долго гудела и затихала. Командарм слушал, отодвинув хлеб. Щемящая эта песня напомнила ему детство, далекие годы, когда он мальчишкой гонял в ночное в осенние холодные ночи старого коня и у него, у мальчишки, был один только тулупчик — рваный, косматый от вылезшей шерсти.
Замученный конь пасся вяло, часами стоял неподвижно под дождем, думал о чем-то, и глаза его слезились.
Мать штопала тулупчик, но он все рвался и рвался, и мать плакала от забот, от дурных предчувствий. Отец ушел на юг, на шахты, и там пропал.
— Да, детство, — сказал командарм и поднял голову.
— Очи я себе спалил на том на панском пожаре, — сказал старик, навевая шапку. — За год до войны я ослеп. Один голос остался для меня на свете.
— А где ж та девочка? — спросил командарм.
— Двадцать годов я ее не бачив, — ответил старик. — Як наскочили на наше село гайдамаки, она и ушла через болота с красными частями. Так и сгинула, загубилась в городах посередь многолюдства. Немає у мене иншего ридного сердца, она одна осталась. Шукав я ее сколько годов, исходил всю землю. Месяц назад вернулся в свое село, прибиг до меня председатель колхоза и каже: «Дочка твоя знайшлась. Приезжав, каже, на побывку Остап — вин служит во флоте. Вин ее бачив, она про тебя пытала, а вин, дурный, сказав, шо ты ушел из села, загубывся, мабуть вже помер. Она дуже плакала. Я, каже, адрес ее у Остапа спысав». Ось вин!
Старик вытащил из-за пазухи измятую бумажку и протянул ее вперед в дрожащей руке.
Командарм прочел адрес при свете керосиновой лампочки. Стекло у лампы было покрыто мохнатой пылью, — должно быть, ее с зимы не зажигали.
— Далеко тебе идти, отец, — сказал командарм. — До самого моря. Далеко и долго идти.
— Одного боюся: не дойду, — ответил старик. — Годы мои великие, силы прежней нету.
Вошел летчик и доложил, что работы осталось часа на два и на рассвете можно будет лететь.
— Значит, мы не опоздаем? — спросил командарм.
— Прилетим как раз вовремя. Ночью командарм не спал.
Он вышел из избы. Как только он переступил порог, густая ночь окружила его шелестом и холодом. Осины на берегу торопливо зашуршали листьями и стихли.
«Да, детство», — подумал командарм и закурил. Все как в детстве: глухие ночи, стожары, роса, сонная возня птиц, ночующих в мокрой листве.
Командарм посмотрел на восток. Среди черных ветвей сверкал зеленый холодный Сириус, — приближался рассвет.
Командарм вернулся в избу. Все спали.
— Отец! — негромко позвал командарм.
Слепец пошевелился в своем углу. Командарм зажег спичку. Старик сидел на полу, прислонившись к стене, и смотрел в темноту светлыми мертвыми глазами.
— Отец, — повторил командарм, — собирайся. Мы возьмем тебя, доставим до моря.
Старик молчал в темноте.
— Бери лиру, завяжи сумку с хлебом. Через час полетим. Старик молчал. Командарм снова зажег спичку.
Старик сидел все так же. Из его открытых глаз текли редкие слезы.
— Чую, — тихо сказал он. — Чую, сердце мое.
Через час машина с торжественным рокотом, разогнав по озеру темную волну, шла в небо, разворачиваясь к югу, где низко, среди просек и пустошей, дотлевал пепельным огнем Юпитер.
Перед отлетом летчик оглянулся на слепца, сидевшего в кабине. Лицо старика сморщилось. Он вытирал глаза колючим рукавом свитки и бормотал:
— От, старый дурень, яка приключилась история!
— Разрешите доложить, — сказал летчик командарму. — Двести километров лишних. Мы опоздаем ко флоту.