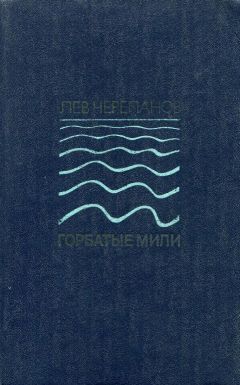— Приволье?
— Кузьма!.. — словно призвал к порядку Холодилин.
— А Венка-то тут же, со мной, — гордо сказал Кузьма Никодимыч. — Может, кликну? Увидишь: он больше меня вымахал.
Разумеется, что Венка, кто б еще выведал, что декабрист Кондратий Рылеев тоже бороздил Тихий, не раз падал под ударами уилливо — чудовищного ветра Аляски, на острове Ситки заложил верфь.
— А как называется коробочка с насосами? — устыдил он рулевого Николая, не столь видного без стилизованной бороды. — Гляди, среди ржавчины: «Кондратий».
— Ну-ка! — высунулся над бортом Варламов Спиридон.
К нему присоединился Бавин.
Венка смотрел в оба: остерегался попасться матери. Как только опустела дорога в гору, отправился к своему тайнику. Нащупал банку с кузбасслаком и кисть. Перемахнул за борт поставленного на прикол «Кондратия Рылеева», по цепи спустился на висящий якорь и занес руку.
Боцман не успел угнаться за ним. Слез с «Тафуина», сказал:
— Не там, вообще-то, полагается…
Венке пришлось изобразить непонимающего: о чем ты толкуешь, реликвия старого флота?
— Вижу, собрался обновить имя. Надо выше…
Они быстро управились бы с реставрацией. Появился посыльный первого помощника:
— Где наш историк?
Он наметил вдоль проведенной черты: КОНДРАТИЙ. «Значит, мать… — сказал про себя. — Она меня затребовала. Обязательно заведет, когда и что отец сделал будто не по совести. Попреков не переслушать!»
— Постой! Кузьма Никодимыч! Я же видел твоего парня. На «Амурске»?.. — Холодилин вроде разочаровался. Пожелал, чтобы Венка подтвердил это тотчас же и плеснул в фужер взрослую норму.
— Осилишь?
Венка так оглянулся, вроде действительно где-то таилась опасность. А Кузьма Никодимыч подумал: «Не может без моего разрешения».
Со стаканом в руке Холодилин, стараясь не качаться, смущенный, наблюдал за обрадованным Кузьмой Никодимычем, снова подошел к нему, чтоб заключить еще раз в объятья… Ему все же шло быть под хмельком.
— Вениамин Кузьмич! — сказал и жестко, и как самый близкий человек.
Венка только чуть сузил глаза: не глухой, слышу! Подошел к Холодилину, стараясь скрыть тревогу за отца: «Как переживет, если все-таки случится это, столкнется где-нибудь с матерью? Что же мне-то тогда? Ничего на ум не приходит!»
— С Кузьмой Никодимычем!.. — гордо произнес Холодилин. — С ним мы столько фронтовых сухарей разломили пополам. А ты той же крови и духа. Наш! Помни это.
Кузьма Никодимыч улыбался Холодилину почти заискивающе — так показалось Венке. Смотрел на Венку как никогда раньше. Словно на сына-новобранца. Вверял его своему испытанному боевому командиру, очень уважаемому, и был готов помочь им обоим в чем угодно, только б они ладили.. Он еще никому не рассказывал про генеральский обход в госпитале, потому не сразу решил, с чего ловчей начать.
— Только услышал я со своей койки шумок… Сразу дверь нашей палаты открылась до последнего предела: генерал! «Где? Какой?» — приподнялся таким образом, на одном локте. Боком ко мне стояла лечащая врач, отчитывалась. Прошептала: «У этого, — на меня, — контузия, не может разговаривать». По губам понял.
— Выпьем? — обратился к молодому поколению Холодилин. — А ты говори, — не попросил, а приказал смиренно умолкшему Кузьме Никодимычу.
— Генерал был медицинский, с узкими погонами… — сглотнул слюну Кузьма Никодимыч.
— Что ты, будто никак не насмелишься? — поощряюще возмутился Холодилин. — Давай вжарь, как приходилось в атаке.
…Потом на верхнем капитанском мостике Венка мог повторить то, что рассказал отец, чуть ли не слово в слово.
— Генерал начеркал на бумажке: «Семья есть?» Я ему показываю свои каракули: «В Евпатории». — «Не против, если отправим тебя туда с сопровождающим?»
Кузьма Никодимыч никогда не был таким, щадил Венку. А тогда забылся или что. Словно не владел собой — продолжал рассказывать о том, что не отболело:
— Выбежала жена на стук в двери, всплеснула руками. Мой сопровождающий, такой интеллигентный, из учителей, сразу ей дал понять, что я еще живой: «Видишь, что с твоим благоверным фашистское зверье наделало!» Она заревела надо мной, отчего я чуть не отсырел, обе руки положил на глаза.
С недельку прожил Кузьма Никодимыч дома, на другую перевалило. Увидел: то сделает жена, другое. Нередко в счет своего сна. И вроде через силу. Все задумывалась. Метнется за чем-нибудь и вдруг как запнется. А однажды набралась духу и подошла к изголовью, бух лицом на грудь. Плакала, убивалась: «Кузя, умница. Скружила с тобою будто. Света божьего не вижу. А ведь я еще молодая, на лице ни одной морщиночки, приглядись. Может, пожалеешь меня? Уедешь куда-нибудь? За сына пусть у тебя голова не болит. Он моя кровиночка, как-нибудь выкормлю».
Родные Кузьмы Никодимыча погибли в первый же год оккупации Киевщины. Его скрутила печаль. «Один я, как перст. Никому не нужен». А потом взял себя в руки, должно быть. Сказал: «Где мои, с кем воевал? Не может быть, чтобы они не приспособили меня к чему-нибудь?»
Кузьму Никодимыча увезли в Сибирь, в госпиталь хроников. Там сестра-кержачка не дала ему лежать, поставила на ноги и мало-помалу выучила говорить. Раскладывала перед ним картинки с буквами, приставала: «Тембр-то у тебя что надо. Почитай. Постараешься — Левитана за пояс заткнешь. Не страшно падать. Кто не падает? Страшнее вовремя не встать».
Сначала он одолел слоги, отдельные слова. Только когда нервничал, то заикался.
Какой-то командир, уже немолодой, по-отечески взял на себя беспокойство выхлопотать для него место в рентгенкабинете: помогать по электрической части.
Через год одумалась жена Кузьмы Никодимыча, собрала что требовалось для розысков.
— Кузя!.. — уже по-другому, испугалась за себя.
— Приехала?
Он вначале посчитал, что у нее от раскаяния брызнут слезы. Пригласил в сквер.
— Что с тобой? — кинулась она ему на шею.
Пусть поступает как любо! Простил Кузьма Никодимыч ее жестокость. Поднял с беседки кем-то оброненное «Расписание поездов». Погладил свою шею. «Картоха уже цвет набирает…» — проговорил будто для кого-то, заметив, что все, готов, скоро скажет: «Помочь тебе? Пожалуйста. Буду переводить. А никаких видов на меня больше не имей».
Когда случилось ей приехать на поезде навестить его еще, то обдуманно укорила за то, что Венка в отличие от своих сверстников «ни в чем не знал удержу». «Ходишь неплохо. Слух у тебя есть. Вполне как будто. Говоришь. А что по части сознания? Его вроде не шибко-то… Или совсем нет. Если не так, мстишь, то имей в виду: не мне одной, Венке — тоже. Совсем ни за что…»
В сини раннего вечера, из бушующего океана, с небольшого расстояния семафорила подводная лодка. Или звала к себе, или о чем-то извещала перед погружением на перископную глубину. Магниевые точки-тире видел и Венка на верхнем мостике, и Кузьма Никодимыч из каюты Назара.
— Что у вас тут такое? — сполз под стол предоставленный себе Холодилин. — Давно от себя отпинываю… — Отодвинул ковер в сторону: — Кальмар! Что, он у вас на салат?..
5
Еще не настала ночь. Камчатской родниковой воды «Тафуин» набрал по потребности, во все емкости. С первого оборота двигателя поразил над собой тишь. Весь поупружел. Повернул нос в океан, потому что только в нем в полной мере ощутил бы себя. Костистый в лопатках Зубакин упер бок в стойку рулевого. Словно никуда не стремился, ни к каким достижениям, решительно ни в чем.
В штурманской Плюхин придавил карту ничем не примечательным грузиком. Обыкновенным ограненным мраморным камнем.
Он сдал вахту. А поскольку начался отход, не смел никуда уйти, потому что мог понадобиться.
Командовал Лето, как обычно желая всем понравиться.
У кормы, из-под днища траулера, без разбега, сразу стремительно рванула ударенная винтом вода, образовались улова, они, шепелявя, понеслись к берегу и разбились о борт разавтографленного «Кондратия Рылеева».
В призрачном, зыбком полумраке ходовой рубки на виду оставался только один подсвеченный компас — белый горизонтальный круг. Назар думал о бывшей жене Кузьмы Никодимыча — матери Венки. Взглянул на черточки градуировки неподвижной компасной картушки. С этого началось его заблуждение насчет перемещения в пространстве. Вроде не «Тафуин» ложился на заданный Зубакиным курс. Он никуда не двигался — такое складывалось впечатление. Стоял и ждал, когда наша Земля, вернее сказать — Океания, повернется с северо-запада на юго-восток насколько полагалось, ни на десятую градуса меньше.
«Ничьи советы не приняла бы мать Венки тогда в Евпатории. Потому что… — Назар поостерегся обобщать. — Ум и чувства.. В каких соотношениях? Равны ли?»
Перед устойчивым, ни с какого борта не залитым «Тафуином» укрытый мглистым пологом океан остервенело кидался, на кого-то замахивался, падал и храпел. «Тафуин» остановился как бы в нерешительности. А у самого за кормой всплыл кипящий опупок, подтолкнул его: «На, получай то, чего ты хотел! Нечего!»