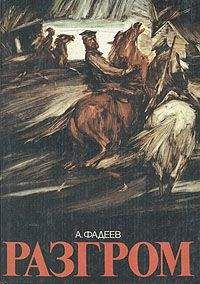— Пятерых нет, — сказал «механик», — удрали.
— Босотва! — презрительно добавил нескладный чубатый парнишка. — Трусят…
— Перело-овим! — уверенно загудели остальные.
Селезнев отвел ребятам место в конторе и выписал им паек.
Работа пошла веселее.
В тот же день пришел капитан парохода — костлявый мужчина лет сорока, одетый, несмотря на стоявшую теплынь, в теплую казачью шинель и такую же папаху. Он относился к своей судьбе со странным безразличием, и Селезнев долго не мог отгадать, каково его действительное настроение. Они вместе прошли на пароход, где уже возились маленький механик и раздобытые им неизвестно откуда слесаря и плотники. Увидев, что работа кипит, капитан несколько оживился.
— Пятьдесят восемь лет посудинке! — сказал он с неожиданными ласковыми нотками в голосе. — Отец мой сорок лет на ней плавал. На Ханку и к Николаевску ходил. Тогда тут еще маленький поселочек был, а теперь — город…
Последнее слово капитан произнес с легким оттенком неодобрения и даже досады.
— Тебя как звать? — спросил Селезнев.
— Усов, Никита Егорыч.
— Тезка, значит? Ладно. Так вот, Никита Егорыч, назначаю тебя старшим по ремонту. Понял? Все, что требуется, докладывай мне. Срок — неделя.
— Недели мало, — сказал капитан, снова переходя на безразличный тон.
— Неделя! — решительно отрезал Селезнев.
Капитан помялся, потеребил выцветшие казачьи усы и, как-то сбоку глядя на Селезнева, сказал тем же безразличным тоном:
— Попробуем. Я хочу вам сказать, что я, конечно, не интересуюсь политикой. Но японцы тоже не по мне. Я не стану тормозить дело.
— Еще бы ты стал тормозить! — с обычной грубоватой и вместе с тем незлобивой насмешкой воскликнул Селезнев.
Но он понял капитана очень хорошо. Старый речной судак действительно боялся политики и предпочел бы сидеть дома. Но раз его сволокли с нагретого места, он решил работать не за страх, а за совесть, как работал на «Хорунжем Былкове», когда тот вылавливал большевиков.
На другой день Назаров привел «хозяйственного человека».
Более странного и подозрительного типа Селезнев не видел никогда в жизни.
Его лицо, волосы, шея, кисти рук с неимоверно длинными пальцами были ярко-рыжего, огненного цвета.
Веснушчатый нос чуть вздернулся кверху и совсем не вязался с горестной и немного ядовитой складкой тонких обветренных губ. При всем том «хозяйственный человек» имел очень жуликоватый вид, усиливавшийся потрепанным клетчатым пиджаком с воротником, загнутым кверху, указывавшим на знакомство с последней модой амурских «налетчиков».
Неприятно поразили Селезнева уставившиеся в него немигающие белужьи глаза с длинными, почти белыми ресницами.
Фамилия «хозяйственного человека» оказалась Кныш.
Он должен был добыть весь необходимый материал по оборудованию парохода и заготовить продовольственные запасы для матросов и комендантской команды.
Однако он не выразил никакого испуга или протеста, узнав про трудности своей будущей работы.
Селезнев не решился сразу ввести его в курс и велел ему прийти на следующее утро.
— Назарыч! — недоуменно воскликнул он, когда Кныш вышел из конторы. — Ты промахнулся на этот раз, старый братишка. Ну, скажи мне: ну, что это за фигура?
Назаров вытащил из кармана голубенький кисет и, распустив завязку, достал из него кусок газетной бумаги и щепотку крупного коренчатого табаку. Свернув папироску, он протянул кисет Селезневу и, по обыкновению, не глядя ни на кисет, ни на Селезнева, сказал спокойным и ровным тоном:
— Это жулик. За ним придется присмотреть. Только для нас… — тут Назаров сделал маленькую паузу и тем же спокойным тоном докончил: — Это самый годящий человек.
Чувствуя, однако, что для Селезнева его слов недостаточно, он продолжал:
— Нас он не надует — факт. А других — сколько угодно. Он тебе самую последнюю гайку, хоть из-под земли, а доставит моментом. В живом виде.
Селезнев решил не спорить, а посмотреть. Но он не оставил Кныша без контроля и, дав ему на другой день задачу добыть в Иманском депо необходимые для машины части, написал бумажку от себя, в которой точно указал, какие именно части были нужны.
— Сходи в ревштаб, пущай председатель наложит резолюцию — «выдать».
Кныш оказался талантливее, чем предполагалось. В первый раз он действительно сходил в ревштаб и получил требуемую резолюцию. Однако он сразу увидел, что это очень длинная, волокитная история, а главное — никому не нужная. Развалившиеся части и учреждения не обращали никакого внимания ни на бумагу, ни на резолюцию ревштаба, а всюду приходилось действовать самому. Тогда он засел за работу и в пять минут разучил подпись председателя как нельзя лучше. На всех следующих бумажках, выдаваемых Селезневым, он накладывал резолюцию собственноручно и, раздобыв требуемую вещь всякими правдами и неправдами, возвращал бумажку с надписью «исполнено».
Если ему не удавалось перехитрить тех, от кого зависела выдача необходимого продукта или материала, он старался его украсть. У него было неисчислимое количество «друзей», способных за незначительное вознаграждение выкрасть с неба апрельскую луну.
Неизвестно, какое количество различных ценностей Кныш употребил в свою пользу, но к указанному Селезневым сроку он не только достал все, что требовалось для парохода, но и нагрузил его более чем достаточным количеством муки, сала, печеного хлеба, солонины, гнилой копченой рыбы и даже липового меда.
Приведенный Назаровым «писучий человек» оказался вихрастым синеглазым мальчуганом лет пятнадцати, служившим до этого поваренком в одном из полков. Он совсем недавно бежал из родительского дома и жаждал более авантюристических похождений.
— Переезжай ко мне со всем имуществом, — сказал ему Селезнев. — Будем друзьями.
Имущество синеглазого парнишки выразилось в маленьком вещевом мешке, в котором, кроме смены белья, хранилось «Руководство для кораблеводителей», издания 1848 года, сломанный детский компас и старый заржавленный пугач без единого патрона.
Как бы то ни было, но работа в затоне закипела с лихорадочной быстротой. И каждый новый человек, каждый фунт краденого сала, каждая маленькая ржавая гайка, попадая на пароход, чувствовали на себе острый, распорядительный глаз Селезнева и его твердую, в железных мозолях, руку.
Через девять дней после начала работы Селезнев явился к председателю ревштаба и доложил ему, что «все готово». Пароход и баржа были заново отремонтированы, покрашены и в четвертый раз в своей жизни переименованы. Теперь пароход назывался «Пролетарий», а баржа — «Крестьянка».
К этому времени сформировалась комендантская команда. Это была разноликая, разношерстная «братва». Тут были рослые крепкоскулые пастухи с заимок Конрада и Янковского — задумчивые ребята в широкополых соломенных шляпах, с неизменными трубками в зубах. Были замасленные и обветренные машинисты уссурийских паровозов, с черными, глубоко запавшими глазами, похожими на дыры, прожженные углем. Были тут и разбитные парни с консервной фабрики, с острыми, ядовитыми язычками и жесткими ладонями, порезанными кислой жестью.
Они безропотно грузили все, что им прикажут, и в жгучий полдень, и в слизкие, дождливые ночи, задыхаясь под тяжестью массивных станков и несчетного количества орудийных снарядов. Они несли бессменную вахту у пулеметов, с минуты на минуту ожидая выхода японских канонерок, чтобы перерезать им путь, и дрались смертным боем с бесчисленными толпами дезертиров, грозивших либо овладеть пароходом, либо «разнести в дресву паршивую посудину». Днем обстреливали их китайские посты, как только пароход приближался к китайскому берегу, а ночью леденил холодный туман, и сумрачный стлался вдоль границы Китай, суливший нежданные хунхузские налеты.
За Амуром у каждого оказались друзья, предлагавшие не ехать назад, в «чертово пекло», обещая «устроить» на более спокойные места без всякого риска. Но, справив дела, они неизменно возвращались обратно, шли, стиснув зубы, надвинув шапки на брови, снова вверх и вверх против течения — для новых вахт и драк, за новым драгоценным грузом.
И не знавший правил правописания, бесстрастный телеграф слал по линии одну за другой деловые телеграммы со странной, непонятной подписью: «комендант пролетарий Селезнев».
5
Этот день был несчастлив с самого начала.
Около трех часов ночи пароход «Пролетарий» сел на мель верстах в двенадцати выше станицы Орехово. Чувствовалась несомненная халатность, так как речной фарватер был изучен до тонкостей в прошлые рейсы.
Кривоногий машинист свел Селезнева в трюм и, приподняв половицу, показал ему, чем угрожает подобный опыт в следующий раз.
— Глянь, голова, — сказал он, добродушно щурясь в темноте, — днище-то на ладан дышит, насквозь проржавело. Еще разок сядем и — каюк.