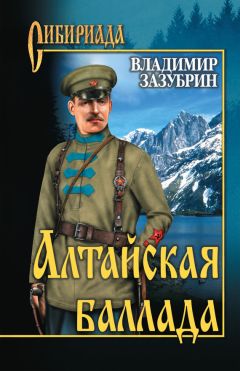– Ой, батюшка, помоги на спину поднять, – обратилась она к офицеру.
Голос старухи дрожал и срывался. Дышала она тяжело.
– Ой, замучилась, еле вытащила. Ребятишки у меня, у дочери, голые. Ой, нужда, одеть нечего.
Мотовилов засмеялся:
– Ай да бабуся, тащи, тащи. Это дело хорошее. По крайней мере красным не останется. А ну, давай я помогу тебе!
Офицер легко положил увесистый тюк старухе на спину. Старуха пригнулась совсем к земле и тихо пошла по улице, благодаря за помощь.
– Ну, спасибо тебе, батюшка, дай бог тебе доброго здоровья.
Каптенармус сиял. Мануфактуры в складе было много, и он брал для батальона, на выбор, лучшие материи.
N-цы складывали себе в сани куски тонкого сукна, диагонали, цинделевского сатинета, батиста, бумазеи и шелка. Солдаты сверх шинелей надели новенькие непромокаемые плащи, попавшиеся им в этом же складе.
– Эх, только при отступлении оделись как следует. Что раньше бывало!.. На фронте оборванцами ходили. Когда мы через Белу переправлялись, красные так и команду подавали: «По оборванцам часто начинай», – вспомнил Фома.
– А все оттого, что измена кругом. Видишь ты, добро какое в складах держали, а нам чего давали? Английское обмундирование только в Утином выдали. Вон уж когда, – рассуждал вестовой.
Нагрузив мануфактуры, батальон пошел искать себе квартиры. Расположились в большом доме богатого купца, бежавшего на Восток. Дом был брошен на прислугу. Мотовилов в шубе и в валенках прошел прямо в гостиную, не раздеваясь сел в мягкое кресло. Фома положил Барановского в соседней комнате на широкий турецкий диван, заботливо укрыв дохами.
– Фомушка, – увидел его Мотовилов, – в разведку насчет всего этого и прочего. Чтобы ужин был на ять.
– Слушаюсь, господин поручик.
Вошел фельдфебель почти пьяный и, приложив руку к виску, хотя и был без шапки, доложил:
– Так што, господин поручик, там две барыни-беженки и офицер с ними, просятся ночевать. Ух, одна барыня и хороша!
Фельдфебель, сладко зажмурившись, затряс головой. Мотовилов обрадовался.
– Проси, проси скорей.
Офицер оказался однокашником Мотовилова, это был кавказец Рагимов. Старые знакомые заключили друг друга в объятия.
– Ну, как живем, дюша мой? – спрашивал Рагимов, отряхивая снег с папахи.
– Да, стой, – спохватился он, – забыл тебе представить моих дам. Эта вот Амалия Карловна фон Бодэ, жена капитана генерального штаба, – говорил Рагимов, подводя Мотовилова к полной блондинке. – А это Александра Павловна Бутова, супруга некоего фабриканта, в Японию преблагополучно удравшего. Прошу любить и жаловать!
Мотовилов расшаркался. Дамы, решив привести в порядок свои туалеты, удалились в соседнюю комнату. Офицеры остались вдвоем. Рагимов снял шубу.
– Да ты уже поручик? – удивился Мотовилов. – И, кажется, георгиевский кавалер? – дрогнувшим голосом спросил он. В его душе зашевелилось неприятное чувство зависти.
– Как же, как же, дюша мой. Я у красных батарею отнял. Ну, Колчак нам звезда третий давал и крест. Мы человек кавказский, резать много любим. Отчаянный народ!
Рагимов самодовольно щелкнул языком. Мотовилова мучила зависть. Ему было досадно, что он, сын гвардии полковника, кадет, окончивший корпус виц-унтер-офицером, а училище старшим портупеем, служивший в славной N-ской дивизии, ничего не имеет, а вот выскочка Рагимов успел и чин и «Георгия» схватить.
«Хоть бы мне «Владимира» иметь и то хорошо. Шикарный крестик, красный, как кровь, с мечами и черно-малиновым бантом», – бродили у него в голове честолюбивые мысли.
– Ну, а это что за дамы с тобой? – Мотовилов перевел разговор на другую тему.
– Одна – Амалия Карловна, жена нашего начальника штаба, моя любовница. Другая – Александра Павловна, брошенная своим мужем жена, особа скучающая. Можешь заняться ей. Познакомился я с ними потому, что ехали в одном эшелоне, даже в одном вагоне. Ехали мы так, ехали, да в один прекрасный день красные кавалеристы наскочили на нас. Конечно, можно бы было отстреляться. Мужчины у нас в эшелоне и военные, и не военные – все были вооружены. Ну, выскочили мы из эшелона, постреляли, постреляли, смотрим, а наши купчики и другие удирающие субчики уже пятки смазывают. Пришлось и нам. Хорошо, деревня была близко. В первом же дворе я достал подводу да вот с дамами-то и ускакал. Ну, вот тебе и все, – закончил Рагимов.
Вошел Фома.
– Так что, господин поручик, достал кое-чего.
– Где, Фомушка?
– Варенье у хозяев нашлось, да мы еще тут съездили с Иваном на Большую улицу, там солдаты магазины разбили, так мы конфет набрали, вина сладкого, меду, сыру, колбасы.
– Молодец, Фома. Назначаю тебя старшим вестовым.
– Покорнейше благодарю, господин поручик.
– А ты почему думаешь, что вино-то сладкое?
– Да мы попробовали маленько, – ухмылялся Фома.
– Ну, ладно. Теперь пулей, Фомушка, в кухню и насчет ужина.
Вошли дамы. Завязался общий разговор. Говорили на тему о том, куда ехать и стоит ли вообще дальше ехать. Фома накрывал на стол. Рагимов говорил, что дальше он не поедет, что он останется здесь и сдастся красным. Мотовилов удивился:
– Как, ты, поручил, георгиевский кавалер, хочешь сдаться в плен?
– Э, дюша мой, довольно. Мы воевали. Честно рэзали. Наша не бэрет. Пойдем к тем, чья берет.
– Но ведь это же подло, Рагимов. Это недостойно офицера.
– К чему громкие слова, Борис, «подло, нечестно, непатриотично». Помнишь, ты в училище еще развивал теории о том, что жить будет только сильный, что жизнь – борьба. Ну вот я и борюсь за свою шкуру, но не как все, с красивыми фразами долга перед родиной или революцией, под гром литавров, с развевающимися знаменами. Нет, я более откровенен. По-моему, и родина, и революция – просто красивая ложь, которой люди прикрывают свои шкурные интересы. Уж так люди устроены, что какую бы подлость они ни сделали, всегда найдут себе оправдание. Капиталист гнет рабочих в бараний рог, выжимает из них пот и кровь, а сам кричит, что это он делает для блага родины, во имя закона и порядка, которые он сам сочинил и установил для обеспечения своего кармана. Большевики объявили священную войну буржуазии всего мира и кричат, что подняли знамя социальной революции. К черту знамена и революции! Не лучше ли просто сказать: идем душить буржуев, потому что если мы их не передушим, то они одних из нас с кашей слопают, а из других масло будут пахтать. Я, брат, не буржуй и не пролетарий. Я – среднее. И для меня безразлично: у буржуя служить или у пролетария, у белых, у красных, у черных, у зеленых. Я буду работать одинаково добросовестно и черту и богу, лишь бы платили хорошо да предоставили соответствующие жизненные удобства. Я торгую своими знаниями. В них все нуждаются – и красные, и белые. Служил я у белых, был поручиком, носил погон с тремя звездами, был командиром батальона. Теперь белой армии скоро не будет. Я перейду к красным, нашью себе три квадратика и тоже буду командовать батальоном. Раньше я лупил красных, и, как видишь, хорошо лупил (Рагимов показал на свой беленький крестик). Теперь я буду лупить белых. Хорошо буду лупить. Попадись ты мне в бою, не пощажу.
– Ты какое-то чудовище, Рагимов.
– Э, опять громкие фразы. Я тебе говорю, что меня совершенно не интересует то, кто будет мне платить, лишь бы платили. Мне безразлично, кто сидит на троне: царь в короне или Ленин в кепке.
Дамы со скучающими лицами едва поддерживали разговор. Обе они были настроены непримиримо. Фон Бодэ трясла своей маленькой головкой и говорила, что она никогда не согласится жить в Советской России.
– Я не плебейка. Я получила хорошее воспитание. Я не могу жить с этими мужиками. Я не могу себе представить, как пережила бы я этот ужас унижения, когда вас насильно заставляют работать. Заставляют делать самую грязную работу. Фи!
Немка брезгливо передернула плечами.
– Да, да, в Совдепии так, – подтвердила Бутова. – Там заставляют работать поголовно всех. Да и к тому же отбирают все ваше имущество, накопленное и приобретенное вами с таким трудом. Нет, благодарю покорно, нищей быть, с сумой ходить я не намерена. И меня просто удивляет, как это мосье Рагимов думает, что он хорошо будет жить у красных.
Мотовилов, заметив, что дамы скучают, стал угощать их вином. Дамы оживились и весьма охотно взялись за рюмочки с кюрасо. Бутова томно смотрела на Мотовилова и говорила, что она ужасно скучает, что ее мучит одиночество, что она потеряла надежду увидеть своего мужа. Офицер усиленно наливал ей в рюмку крепкое вино и говорил общие утешительные фразы о том, что скоро все переменится, что скоро придут японцы и от большевиков только мокро останется. Говорил, что вообще не стоит много думать, а надо жить просто, без рассуждений, и если случится среди месяцев тоски и скуки веселый день, хорошая встреча, то надо использовать их вовсю.