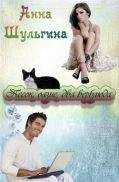— А как же! Летом бесплатно буду всех поить газированной водой! Никто у меня не убежит из Сазаклы…
Люди отдела технического снабжения стали в этот месяц гвардией наступления. И Аннатувак подружился со снабженцами.
Тракторный поезд выезжал ночью. Пять-шесть километров в час по пескам без дороги — это еще хорошо… Двадцать часов в пути. Люди, сопровождавшие грузы, спали в дороге, а проснутся — все то же: небо да барханы. Точно слепой за веревку, тракторная тропа держалась за трубопровод. Вот они, утепленные трубы, обмотанные паклей, точно в лохмотьях, то выползут из песчаного бугра, то вновь зароются в песок. В полдень блеснет на солнце далеко видный с вершины бархана алюминиевый бак насосной станции — и два часа потом ползут до него тракторы и тягачи… Четырнадцать тракторов и восемьдесят пять автомашин барахтались в песках день и ночь. Ночная езда особенно выматывала людей. Усталый водитель тягача Еремкин ночью спросонок врезался в стену жилого дома насосной станции и отхватил угол, потащил под звезды чью-то кровать и ведра. Товарищеским судом судили Еремкина прямо у колодца в поселке и оправдали. Есть же предел человеческим силам…
Човдуров больше времени проводил на дорогах, Сафронов — у самых вышек. Он понимал стратегию начальника конторы: в январе все решат подвоз и снабжение. Догадывался он и о том, что Аннатуваку не по душе встречаться с отцом. А между тем в бригадах у вышкомонтажников и бурильщиков люди потеряли счет дням — не было выходных. «Потом отгуляем в Небит-Даге». Уже заложили фундаменты трех вышек, подвезли и монтировали блок-насосы. Сафронов подобрал трех мастеров, десять бурильщиков, теперь среди местных кочевников искали рабочих — надо же готовить молодые кадры нефтяников.
Андрей Николаевич полюбил дорогу в Сазаклы. Туда едешь — утро, впереди в песках ощущается море, как будто голубой отсвет Каспия роится в небе, и свежесть воздуха на заре приморская. Едешь обратно — глубокое небо пустыни и обрывистая, серая, освещенная закатным солнцем скала Джебел. В ее глубоких пещерах и впадинах до черноты налита тень. На лысых обрывах лепятся ветвистые арчи… Можно подумать о вечности, о бессмертии, пока не тряхнет на корнях саксаула.
На полпути между сазаклынскими вышками и алюминиевым баком насосной станции тропа проходила в глубокой песчаной котловине, по краю которой, в полукилометре, не далее, Андрей Николаевич каждый раз провожал взглядом историческое чудо — морской порт в пустыне. Да, там белели тысячи свай, на которых некогда стоял мол, виднелись развалины глинобитных магазинов, глазом ощупывалась линия берега, вся усыпанная черепками разбитых кувшинов. Здесь когда-то, восемьдесят лет назад, был в самом деле морской порт Михайловский, и от него тянулась железнодорожная линия в глубь Средней Азии. А потом Каспийское море ушло за тридцать километров к западу. Пески пожрали и железнодорожное полотно и пристанские склады. Барханы ворвались в таможни и караван-сараи, а люди ушли. И ничего не осталось, только дождевая вода узкой полоской отделяет автомобильную тропу от старых развалин и означает собой остатки фарватера. Подойдешь — даже не лужа, а все-таки и в этом зеркальце отражается небо… Зрелище смерти всегда волновало Сафронова. Отъехав подальше, он засовывал руки глубоко в карманы кожанки и закрывал глаза.
В эти дни Човдуров оценил способности и опыт старого инженера. Оказалось, что Андрей Николаевич многое успел обдумать заранее. Он и к авралу подошел не спеша, и его деловая хватка была под стать бешеному темпераменту начальника конторы. Они как будто наперегонки состязались. А все-таки верх взял Човдуров. Всем это было ясно, когда в середине месяца после трех недель безоблачной погоды прошли хорошие дожди. Пески слежались, машинам стало легче, шоферы приободрились. И тут Аннатувак придумал смелый командирский маневр — бросил в пустыню весь автопарк конторы. Сто сорок автомашин так накатали за двое суток влажную трассу, что с этого дня бурильщики в Сазаклы стали считать, что дорога из Небит-Дага уже проложена. Теперь трактор успевал от зари до зари и отвезти груз и вернуться обратно.
А Сулейманов? Как жил в январе Султан Рустамович — «первооткрыватель», как теперь его полушутя, но вполне уважительно называли в конторе?
Говорили, что он просто поселился в Сазаклы. Туда ему привозили с квартиры и чистое белье и бакинскую почту. По нескольку дней он жил в комнатушке начальника участка Очеретько, спал голова к голове с молодым участковым геологом Зоряном. Буровые бригады стремились ускорить проходку скважин, но чем дальше углублялись в недра их трубы, тем больше времени уходило на взятие проб. Чтобы поднять на поверхность маленький цилиндр — керн — с глубины двух тысяч метров, нужно много часов вынимать свечу. И тут Сулейманов не давал пощады бурильщикам, никакого послабления, с каждых двухсот метров проходки требовал керн. Он был неумолим, и мастер Атабай напрасно пытался веселыми шутками и мудрыми поговорками влезть в душу этого маленького геолога: он и смеялся шутке, и в то же время пальцем показывал вверх, что означало — пора выдавать пробу.
Однажды Сулейманов и Човдуров встретились под вечер на дороге. Геолог подъехал к насосной станции и увидел сидящего у стены Аннатувака. Там, у стены насосной станции, торчал из песка единственный, людьми посаженный, кустик саксаула — все, кто тут ездил, его знали. Вот у этого куста и сидел Човдуров, очень одиноко и грустно. Султан Рустамович вылез из машины и подошел, удивляясь, что тот не слышит.
— Здравствуйте, Аннатувак Таганович!
— А?.. Что сказал? — спохватился Човдуров, даже не поняв, кто заговорил.
Впрочем, всю дорогу, до самого Небит-Дага, они ехали потом в одной машине, Човдуров интересовался результатами проб, и неприятное впечатление у Сулейманова исчезло. Что ж, просто устал человек, вот и задумался.
Как ни удивительно, но тоньше всех ощущал этого другого, — задумчивого и грустного — Аннатувака его сын, ребенок, Байрам-джан.
Возвратившись в дом, еще пыльный с дороги, Човдуров обнимал, прижимал к груди, целовал, радовался, смеялся с ним вместе. Но вдруг словно переставал его видеть, останавливался среди комнаты, не понимая, что мальчик только разыгрался. Он не отталкивал его, а лишь ложился на диван и задумывался на минуту. И мальчик надувал губки — «Разве папа меня не любит?..» — и шел на руки к матери, плачущим голосом шептал:
— Мама, мама, что с папой?
— Ничего, сынок…
— А почему он оттолкнул меня? Или спать хочет?
— Тебе показалось. Папа, наверно, устал, Байрам-джан.
Тамаре Даниловне тяжело было видеть, как страдает Аннатувак. Она старалась поддержать и ободрить, быть ласковой и нежной.
Однажды, уложив сына, она подсела на диван к Аннатуваку и обняла его.
— Тувак-джан, — сказала она, — у нас с тобой работа разная, я на промыслах, ты занят бурением. А теперь мы и совсем редко встречаемся и не знаем, что у кого болит, что кого беспокоит. Скажи, как дела у вас…
— Дела… — Аннатувак опустил глаза, потом медленно произнес: — В общем неплохо. Но ведь ты хорошо знаешь, что я не изменил своего мнения. Я руководитель коллектива, партийный долг заставляет меня действовать наперекор своему взгляду. Можно ли так работать?.. Поверь, я со всей энергией выполняю решение, и мы протолкнули в пустыню целые транспорты оборудования, люди воодушевлены, горы ворочают… И я с ними вместе. Только я работаю слепо, нет ничего хуже раздвоенности действия и мысли. — Он помолчал, погладил ее руку и тихо добавил: — Я теперь словно молот из шерсти: бью и собственных ударов не слышу…
Тамара Даниловна положила голову на плечо мужу и тихо, мягко заговорила. Аннатуваку слова слышались как бы сквозь дрему.
— Ты же не ребенок, Тувак-джан. Была дискуссия, тебе дали высказаться. Потом в Ашхабаде обсуждали… И была комиссия. И все с уважением вникали в твои доводы, ничего не делали наспех. Правда? И дело ведь не в одном Сазаклы — ведь это начало нового этапа для всей республики… Может быть, ты ошибаешься? Не все увидел. Кому-то с горы видней? Ты же не ребенок, Тувак-джан… Должен понимать.
Аннатувак сам не заметил, как высвободил плечо, взглянул в глаза жене, но в этом взгляде был не гнев, а мольба о помощи.
— Ты можешь этого не говорить. Только ты да маленький Байрам знаете меня сейчас, в минуты слабости. Я работаю. И, хотя представляю страшные события, которых нельзя будет избежать, ты не думай, Тумар-джан, я не боюсь. Когда речь идет об интересах родины, страх не останавливает. Но я ненавижу себя: как же я не смог доказать другим свою правоту? Почему беру на себя ответственность за дело, в которое не верю? Почему не откажусь от этой работы? Что тогда скажет мне партия? Стоит мне намекнуть о своем несогласии, Атабаев уже грозит пальцем.