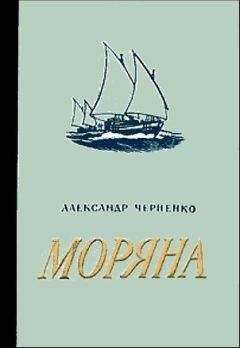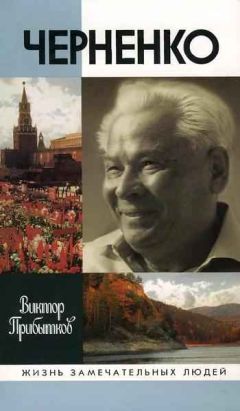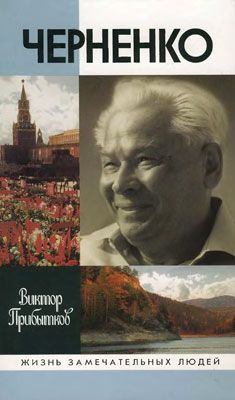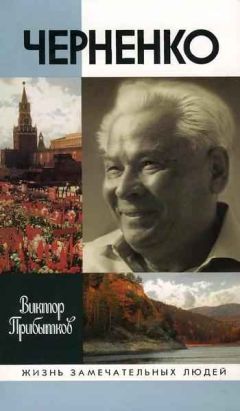Они двинулись к каюте; у двери приемщик задержался и, направив дедушку Ваню вниз по лестнице, повернулся к Зиминой:
— Сейчас штаны-рубах даем тебе стирать. Ожидай!
Зимина присела у весов и, глядя на палубу, сплошь усыпанную чешуей, взволнованно подумала:
«Скорей приезжал бы Григорий Иваныч и Андрей Палыч... Артель бы скорей!..»
Она так крепко задумалась, что даже не заметила, как подошел к ней приемщик с узлом белья.
— Бери штаны-рубах, — и сунул ей в руки узел. — А слух твой верный: приемка скоро ставим Островок. Тогда твой стряпуха наш будет. Приказ вчера давал директор промысла. Баркас идет!
Молодой казах отвел Зимину в сторону и, вертя приколотый к рубашке кимовский значок, несмело спросил:
— Как там мой коке, старый ш-шорт, Островок поживает?
— Какой?.. Шаграй, что ли. что у Дойкина? — догадалась вдова.
— Он самый, старый ш-шорт!
— Ахат?! — Зимина радостно взмахнула рукой, признав в молодом казахе того самого Ахата, сына Шаграя, который несколько лет работал у Дойкина и в позапрошлом году ушел от него на государственный промысел.
Вдова с удивлением оглядывала парня.
— Значит, приемщик теперь? А это что у тебя? — она показала на значок.
— Комсомол! — Ахат улыбнулся, сверкая белыми мелкими зубами. — Мое сердце Ленин бар, Ленин живет!.. — Он крепко прижал значок к груди. — Моя хочет ба-альшой, ба-альшой жизнь!
— А зачем коке, батьку-то своего, ругаешь? — и Зимина неодобрительно покачала головой.
Ахат перестал улыбаться и, краснея, ответил:
— Говорил ему, писал: бросай Дойкин, ходи работа промысел. А старый ш-шорт хозаин работает. Скоро мы этот Дойкин убирать с дороги будем. Мешает!
Вдруг казах чиркнул пальцем по горлу и зло прошептал:
— Ж-жик! Кончал их праздник!..
Белки его глаз налились кровью.
— Марья Петровна! Поехали! — Дедушка Ваня уже стоял в куласе и держал наготове шест.
— Передавать твоему коке поклон? — на ходу спросила Ахата Зимина.
Он насупился, нехотя ответил:
— Никакой привет...
— Петровна! — дедушка громко стукнул шестом о палубу приемки. — Один уеду! Э-эх, бабы!
— Бегу, бегу! — Зимина, перескакивая через носилки, заспешила к куласу.
— Людей задерживаешь!
Не успела вдова прыгнуть в лодку, как дед уже оттолкнулся от приемки: Зимина чуть не угодила в воду.
— На весла! — скомандовал слепой ловец и, вынув из кормы бутыль с любимой настойкой, разом отпил половину. — Хороша калган-трава!
Зимина налегла на весла и стала рассказывать деду об Ахате и о том, что говорил он о Дойкине.
Слушая вдову, ловец задумчиво проронил:
— Ветром море колышет, а молвою народ...
Откинув шапку на затылок, он, будто зрячий, обвел лицом проток.
Солнце настойчиво пробивалось сквозь туманы, и если бы не эти туманы, то сегодня, наверно, по-особенному лились бы на приморье потоки его жарких лучей.
Набухший лед часто и едва приметно подвигался, отчего одни проглеи суживались, другие раздвигались, студеная вода в них густо дымилась.
Дед отер шапкой лицо и приказал Зиминой:
— Ложи весла!
Подняв шест, он быстро погнал кулас по узенькой проглее, словно по знакомой, исхоженной тропе.
Взморье дымилось голубыми туманами.
Влажный ветер, все чаще и чаще налетая с Каспия, обдавал пахучей, солоноватой теплынью.
Сазаний проток — весь в прососинах — готов был того и гляди сбросить с себя рыхлый ледяной панцырь, под которым уже двигались с моря косяки рыбы.
Когда ветер напирал сильней, лед колыхался, шуршал, проглеи раздавались шире. По ночам, однако, жгучий мороз вновь и вновь сковывал проглеи, покрывая весь проток сплошной ледяной коркой.
Несмотря на часто повторявшиеся морозы, некоторые ловцы Островка пытались по-настоящему наладить добычу рыбы — одни в протоках, другие в море. Правда, те, что хотели пробиться на Каспий, всё еще боролись со льдами в устье банка или же, не в силах преодолеть ледяные преграды, возвращались обратно в поселки, как это случилось с Василием Безверховым. Да и речные ловцы выбивали сети только в Сазаньем протоке и в соседнем — Волокушьем. Повсюду еще лежали набухшие, тяжелые, громоздкие льды. Но ловцам не терпелось — всех неодолимо тянуло на реку, в море.
Один только Лешка-Матрос, казалось, не думал собираться на лов. Он по целым дням бродил по берегу, ненасытно курил, грозился Дойкину и часто с тоской поглядывал, но уже не в сторону маяка, где находилась Глуша, а в сторону Бугров, откуда можно было легко добраться до района, от которого до города — совсем пустяки, а там — и Москва близко!
После разговора с дедом Ваней Лешку неотступно одолевали мысли о поездке в Москву. Многое за это время он передумал, вспоминая фронты, дружков, встречи, разговоры... Его так захватили эти мысли, что он и ночи напролет думал только о былых годах, о Москве. В полночь, когда одному становилось совсем невмоготу от тяжких дум, Матрос выходил из своей хибарки, являлся к слепому ловцу, заходил к тетке Евдоше, к Косте, следил за домом Василия Сазана, где чуть ли не каждую ночь собирались к приезжему человеку Дойкин, старый Турка, Краснощеков и еще кое-кто... Лешка, осторожно ступая, словно идя по тонкому льду, подкрадывался под окна Васькиного дома, старался подслушать разговоры, но окна плотно закрывались ставнями, занавешивались изнутри одеялами, и он улавливал только глухой, невнятный гомон. «Не к добру собираются!..» Эти подозрительные сборища еще крепче убеждали Матроса в том, что уже давно пора по примеру города разделаться со здешними рыбниками. Но снова и снова припоминая, как он однажды за отказ ему кредита учинил скандал Коржаку и за это его чуть не засудили, Лешка полагал, что в районе и теперь не найдет он поддержки.
«В город! В город надо! — думал он. Но тут же закрадывалось у него сомнение: — А может, и в городе не помогут? Может, и там дружки есть у дойкиных и коржаков? Писал же я в город, а ни ответа ни привета... Видать, надо прямо в Москву!»
Однако он никак не мог раздобыть на дорогу денег. Костя Бушлак отказал ему, как отказали и другие ловцы; не дала денег и тетка Евдоша. Все они относились к его поездке недоверчиво, с предубеждением.
Зато дед Ваня не пожалел Матросу пятерки, да еще выпросил он червонец у тетки Малаши.
«Этого хватит пока, — думал он, бродя спозаранку по берегу. — А там видно будет».
Поглядывая на рыжее, тусклое солнце, что настойчиво пробивалось сквозь густые, шедшие валами туманы, Лешка рассуждал о том, как ему пробраться в город: по взбудораженным ледяным протокам и ерикам сейчас не проедешь, не пройдешь, а до полного распадения льдов было еще далеко.
— В город! — не переставая твердил он. — А ежели чего — в Москву!..
Шагая по берегу, он незаметно вышел за поселок, и когда очнулся от дум, увидел: из-за косы, которая врезывалась узким и длинным углом в проток, вынырнула лодчонка.
Лешка пристально всмотрелся в посудину и признал в ней широкозадый, с обрубленной кормой, кулас маячника; на корме стоял Егорыч и, помахивая шестом, проворно гнал кулас по разводьям между льдин. Посредине лодки в яркой, цветистой шали сидела Глуша...
Появление Егорыча и Глуши ненадолго взволновало Матроса: вначале он обрадовался, у него даже шевельнулась надежда относительно Глуши. Но тут же его вновь охватили мысли о Дойкине, о неведомом человеке, который много дней жил у Насти Сазанихи, о поездке в город, в Москву...
Лешке было теперь не до Глуши.
— Лексей! — громко окликнул его с куласа Максим Егорыч.
Матрос чуть приподнял бескозырку и повернул обратно к поселку.
— Лексе-ей!..
Он, не оглядываясь, шагал по берегу.
Когда лодчонка, пробиваясь сквозь льды, вышла на широкую водяную тропинку, что вела прямо к берегу, поднялась Глуша.
— Лешенька! — и, слегка улыбаясь, кивнула проходившему мимо Матросу.
Как и на приветствие Егорыча, так и в ответ Глуше Лешка едва дотронулся до бескозырки.
Маячник что есть силы разогнал лодчонку, и она, с шумом рассекая крошево льда, взбежала носом на отлогий песчаный берег.
Из лодчонки легко выпорхнула Глуша и, смеясь, подскочила к Матросу:
— Живой, Лешенька? Здравствуй!.. А Митрий тут? Не в море еще?
Едва успел Лешка ответить, как Глуша, отряхнув подол юбки, побежала в поселок.
Егорыч вытащил якорь, воткнул его в песок и, искоса наблюдая за Лешкой, который молчаливо стоял невдалеке, сердито сказал:
— Должно, к Митрию поскакала, шалая! — и разом повернулся к Матросу, сурово спрашивая его: — Ключи отобрал?
Лешка не ответил.
— Отобрал, спрашиваю, ключи? — вновь спросил Егорыч Матроса. — Тебе доверил, ты и отвечать будешь! За все отвечать будешь: и за дом, и за все прочее.