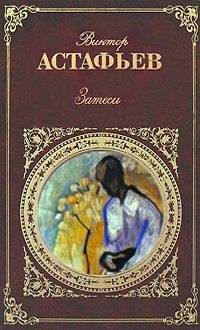— ЧЕ-о-о?! — оскорбленно воззрился он на меня. — Да ты понюхай, голова! Улови скус! Кали-и-ина! — И, сплюнув под ноги, презрительно отворотился от пустого такого и неразумного человека.
Я попытался уловить «скус», все более густеющий и напряженный — получалось что-то до неприличности вонькое. Дурманно-тяжелый дух, перший из мешков, натолкнул меня на иную догадку: «Травники! Накопали кореньев, вот и воняет куколем и бодягом». Откровенно говоря, как воняет корень куколя и бодяга, я не знаю, не думал, но раз эти растения такие наглые в жизни, развесисты листом, крупны цветом, то и корни их должны вонять по-дурному. А тут еще и разговор меж мешочников пошел общий, кто сколь кореньев взял, да какого объема и веса. Женщина, обутая в резиновые бродни, мужицкие штаны и шапку, ошеломила всех, заявив, что у нее один корень не меньше «кила» будет.
Мужики ей не поверили, стали прокатываться насчет бабьего языка, напирали на то, что ихнему брату веки вечные корень невиданной величины мерещится.
Женщина не приняла грубого мужицкого юмора, рассердилась, зубами раздернула грязную тесемку на мешке и выхватила из нее за прошлогодние бледные стебли растение, похожее на козье вымя с тремя распертыми внутренней мощью сосцами, меж которых шаловливо торчали желтенькие пырочки народившихся и нарождающихся хреновин, от которых, однако, напористо шибал во все члены, всверливался в нос резкий, здоровый дух.
— Вот дак хре-ено-о-овина-а-а! — заулыбались и завистливо восхитились мужичонки.
Совершенно счастливая тем, что победила всех мужиков, сразу утерла им всем нос, прощая похабные наветы и намеки, женщина-добытчица хохотала громко, повествуя о том, как ей повезло:
— Кы-ть, я из этих местов! Все здесь насквозь знаю. Вы шары-то налили и в глубь страны поперли, а я, кы-ть, хи-итра! Я, кы-ть, на хуторок. Жалича по всем огородам густущая, дурманом земля занялася. Дак чё мне жалича, морозом оскопленная? На мне, кы-ть, штаны мушшинские, ничЕ не ожгу. В жаличе, в жаличе он, голубок, и хоронился. Сколько лет его никто не тревожил, он и уядрел!
Держа редкостную хреновину за прелую ботву, точно убитую птицу за крыло, так и этак поворачивая чудо природы перед глазами поверженных мужиков, тетка все тарабанила нелепое, куричье, так к ее рассказу идущее «кы-ть». Прикрывшись ладонью и съежась, сообщила о том, как нашла избу деверя-покойника и ночевала в ней, и хоть закрестила и дверь, и углы, сотворила молитву от всех скорбей и напастей, все же опасалась — кабы не явился деверь-то покойничек или еще какой лихой мужик. Поло. Окна выбиты, двери сорваны, все кругом скрипит, ровно кто ходит по дому, а она пужливая, за ней бродяга-арестанец до войны еще гонялся, страшной, в лохмотьях, ножик у его за голяшкой…
По оглохшей земле шатаются шустрые, умеющие жить острым моментом людишки. Пенсионеры, но большей частью бездельники, промышляющие на рынке, открыли новый, доселе невиданный на русской земле промысел, именуя себя гордо — «хреновниками». Тычут, роют они землю, как свиньи, так и сям, выдирая из прибитой дождями и снегом, заросшей земли плод, который не дает себя удавить бурьяну, растет наперекор течению жизни и хозяйственным прорухам, отстаивает свое место, становясь в борьбе крепче, ядреней. Неделями пропадают «хреновники» в сиротских деревнях, ночуют в пустых гулких избах, топят остывшие печи. Ни звука вокруг. Только забухает где-нибудь под ветром оторвавшаяся доска, крякнет калитка на ржавой петле, загудит, покатится и с грохотом упадет на отлепившуюся подшивку дома кирпич из выветренной трубы, зазвенят оборванные провода на пошатнувшемся столбе, иль засвистит в продырявленной напарьей стене, простонет, проскулит что-то на чердаке, и снова немота, тишь, темень.
В заглохшей избе, кинутой как будто при пожаре или при отступлении в войну, где святые угодники смотрят с полуоблезших икон да часы-ходики, упершись ржавой гирей в пол, свидетельствуют о том, что время здесь остановилось, витает чувство тяжелого, вязкого сна. Нет даже страха, а лишь тупая покорность неумолимому ходу жизни. Веками скопленная крестьянская рухлядь скомкана, разбита, развалена. Пропаренные многими поколениями детей лоскутные одеяла съедены мышами; лоскутные же, но с рукодельными кисточками коврики все еще на стене над кроватями, самовар на боку, побитые фарфоровые кружки, лампы без стекол, недопряденная куделя в старой прялке, залощенной до блеска руками, веретешки, ножницы, ржавые вилки, выеденные по бокам ложки, сапожные седухи, коклюшки для плетения кружев, самодельная азбука, старые тетради с упрямо рыжеющими отметками учителей и сердитыми исправлениями ошибок, буквари тридцатых годов, где и самодельная балалайка попадается, своедельные коньки, бабки, запряженные в игрушечные салазки, смастеренные детскими руками. А в одной старой избе плакат военных лет с вырванным лоскутом бумаги, но так он памятен, что и без букв оторванных читается кричащий взгляд русской женщины. «Родину-мать спаси!»
Заезжие городские люди пинают рухлядь, выбирая из нее чего для прихоти, толкают в печь всякое дерево, крушат доски широкущих деревенских полатей, усыпанные, будто маком, неистребимым клоповьим пометом, плоские кровати, расшеперенные скамьи, шаткие столы и табуретки, где и венский стул случается. Особенно много по деревенским избам гардеробов, шкапов, комодов, крашенных какой-то устойчивой бордовой краской, а по ней, по бордовой-то, нарисованы кони, собаки, петухи, цветы. Хорошо горит нехитрая деревенская мебель в печах — выветрилась, высохла до звона за столетия.
На поветях пылится старое ломкое сено, крошатся пересохшие рыжие веники, плесневеют телячьи и коровьи шкуры, рассыпаются ушаты и кадки из-под грибов, ломается изопрелая кожа хомутов, обротей с озеленелыми медными бляшками, осыпаются из-под застрех ласточкины гнезда — не живут в покинутых дворах птицы.
В этакой забытости, запущенности нет даже домовых, да в нежитей и во всякую чертовщину, вечно обретавшуюся по углам деревенской избы, по подпечьям да чердакам перестаешь верить и в самого всезащитного Бога, будь Он, как же бы допустил до этакой обездушенности человеческого жилья и земли, возделанной руками крестьянина, согретой его дыханием? Одной нечистой силы лишь боязно, и все время кажется — кто-то стоит в плесневелых углах, вздыхает и не шевелится.
Зато на городском базаре людно, бойко, шумно: тертый, маринованный, со свеклой, с морковью, с яблоками, а то в собственном натуральном соку и натуральном виде, пучками и россыпью — хрен, хрен, хрен — модная нынче закуска. К итогам хреновников положены или на дощаные прилавки выставлены попутные товары: прялки, скалки, туеса, жалейки, иконы. Загородились на них перстами от людского содома все пережившие и все перетерпевшие святые.
— Кому хрена? Кому Бога? Пр-р-р-родаю-у! Чуть не даром отдаю! — осклабясь, орет современный хам и матерщинник, выставивший на продажу икону Богородицы, орет вчерашний деревенский житель, не так давно еще пуще смерти боявшийся небесного грома и Божьей кары. Все дикое сделалось привычным, все привычное — диким.
Я вышел на улицу — передохнуть от работы. Хожу я обычно к Соборной горке — здесь тихо, уютно, не урчат машины, не трещат лихие мотоциклы, одни лишь пьянчужки досаждают, распивая бормотуху под зелеными кущами, привязываясь к прохожим.
Но в ранновешнюю пору и пьянчужек здесь обычно не бывает — скамейки еще только-только вытаяли, еще снег бел в затенях, лужи кругом. Малолюдно в эту пору на Соборной горке, синиц можно услышать, матерей молодых с колясками увидеть, старушек, чего-то воровато жующих, встретить.
Однако ж времена меняются, и в такую благостную пору не минуло Соборную горку вселюдское бедствие. Только вышел на аллейку, гляжу — навстречу идет взъерошенный, яростно настроенный парень, голоухом, без пиджака, в мятой расстегнутой рубахе. От него шарахаются старушки, мамы коляски в грязь скатывают. А он идет, сжав кулаки, скричигая зубами и с неистовой жаждой схватки возвещает:
— Дратьча хоцю! Ух, как я дратьча хоцю!..
Поравнялся со мной, сделал вид, что меня не заметил, далее устремился. Парень как парень, судя по выговору, с худородных харовских земель: шея тонкая, зубы редкие, прогнившие, лицо костляво, хотя и кругло по рисунку, нос пипкой, глаза бесцветны, из-под рубахи ключица виднеется, что старая колхозная дуга.
«Вмажет, ведь вмажет кто-нибудь дураку по морде! Напросится!» — подумал я.
Возвращаюсь от базара, смотрю: возле собора старушонка привратница кого-то умывает, черпая ладонью воду из снеговой апрельской лужи. Парня-задиру умывает, догадался я и, приблизившись, услышал:
— Это тебе не в деревне! Тут город, тут смирно себя веди… А ты: «Дратьча хоцю! Дратьча хоцю!» — вот и надрался!..
— Ох, город! Ох, город! — мотал головой парень, а по лицу его текло красное мокро, из носу сочились две темные полосы. — Не поговорили, не позаедались, не потолкались… Раз — и в харю! Это шчё же тако? Как же тут жить-то?