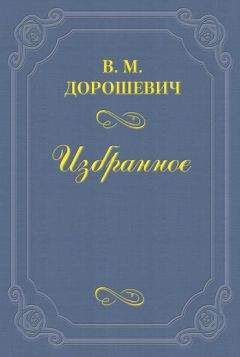— Помнишь, Юрочка, как Борис Андреевич описывал свои путешествия? Ты приходил к нам то один, то с товарищами. Борис Андреевич так любил твои посещения!
— Больше никто нам не расскажет, из каких морей привезены эти сокровища! — печально сказал Юра.
Она помолчала с полминуты.
— А что тебя интересует, Юрочка?
— Вот это и вот это. — Юра показывал на разные экспонаты.
— Они из Австралии, Юрочка. Все в этом шкафу — оттуда. Борис Андреевич ходил туда на торговом судне вторым штурманом, они грузили там австралийскую шерсть. Правда, красивые кораллы, вот эти красные? А это настоящий бумеранг, Борис Андреевич его выменял на комплект матрешек. А набор этих деревянных уродцев куплен в Гонконге. Это был очень интересный рейс, приключения начались сразу, как вышли из Владивостока.
Миша, стоя позади, рассматривал то, о чем она рассказывала. А через несколько минут ему вдруг показалось, что рассказывает не она, а сам Доброхотов. Ее голос изменился, в нем сперва зазвучали интонации мужа, потом и речь стала другой, теперь она говорила будто его словами, это был как бы его собственный рассказ. И если бы она, оговорясь, произнесла: «И в тот день, Юра, нас долго мотал тайфун в Желтом море, и мы два дня отсиживались в Циндау, починяясь и отдыхая» — Миша бы не удивился, фраза, естественно вплетясь в повествование, не показалась бы оговоркой.
Павел принес торт, расставил стаканы. Елизавета Ивановна пригласила к столу. Юра сказал:
— Вы так интересно рассказываете, тетя Лиза! Можно, я еще приду к вам? Мы часто говорим в классе о коллекции Бориса Андреевича.
Она положила Юре на блюдце большой кусок торта.
— Приходи, Юрочка. И товарищей приводи. Борис Андреевич собирал коллекции, чтобы их все видели.
После чая Павел проводил Мишу и Юру до их квартиры. Миша спросил, не расстроил ли он Елизавету Ивановну слишком подробным описанием бури. Павел ответил:
— Для мамы нет ничего слишком подробного, когда говорят об отце. — Он помолчал. Юра поднялся наверх. Молодой Доброхотов, как-то вынужденно улыбнувшись, снова заговорил: — Знаете, я в нерешительности… Мне пора уезжать. Нужно упаковывать коллекции отца, продать часть мебели, в Севастополе у нас своя. А мама отказывается уезжать, пока не вернутся все, кто плавал на «Ладоге».
— Разве вы не можете потребовать, чтобы она ехала с вами?
— Нет, не могу, — печально сказал Павел. — То есть могу… Но не должен, что ли. Я думаю о том, что она в Севастополе будет часто сидеть одна, у нас пока нет детей, я — в походах, жена работает в театре, поздно возвращается… И будет думать о том, что кто-то еще есть, кто видел отца в последние часы жизни, слышал его последние слова, а она не дождалась этого человека… Я не в силах так жестоко поступить с ней! Но как ее оставить в Светломорске?
Миша ответил, что здесь к Елизавете Ивановне каждый день ходит Мария Михайловна, рядом живут Соломатины, он, Миша, тоже в свободные часы будет заходить. Сегодня Елизавета Ивановна так интересно рассказывала о коллекциях мужа, ему показалось, что он слушает самого Доброхотова, даже голос стал похожим.
— Она повторяла рассказы отца. Буквально повторяла! Она так часто слушали их, что запомнила наизусть. Скажите, Миша, вам понравился ее торт?
— Очень понравился, — ответил Миша, удивленный неожиданным вопросом. — Елизавета Ивановна мастерица печь торты?
— А вы не заметили, как она сама ела торт?
— Она съела весь кусок, который положила себе. А почему вы спрашиваете об этом?
Павел сумрачно усмехнулся.
— «Наполеон» был любимым тортом отца, а мама не терпела слоеного теста. Она раньше давала попробовать такие торты мне и с тревогой спрашивала, удались ли, потом несла отцу. А сейчас она ест только любимые блюда отца…
Соломатин обычно возвращался домой поздно. В этот зимний вечер он вернулся рано. Жена ушла в детсад за детьми. Он подошел к окну, смотрел на улицу. На землю валил густой снег, деревья стали пушистыми и белыми. И против светломорского обыкновения снег не таял, чуть касался не знающей морозов земли. Синоптики третий день обещали неделю устойчивых холодов, — прогноз, хоть и с запозданием, выполнялся. Соломатин зевнул, лег на диван, раскрыл газету. Через минуту газета вывалилась из рук на пол.
Он не услышал, как в прихожей зазвучали радостные голоса детей. Потом голоса унеслись в сад, а Ольга Степановна вошла в комнату. Она окликнула мужа, он и ее не услышал. Он тихо похрапывал, приоткрыв рот. Ольга Степановна засмеялась, дернула мужа за плечо. Он вскочил, как если бы его ударили.
— Фу, черт, это ты! — сказал он. — Такой кошмар приснился! Вдруг налетела волна и снесла с мостика.
— Тебе только страшные сны снятся, Сережа.
— Страшные хорошо запоминаются. Остальные выпадают из памяти, чуть проснусь.
— Почему ты сегодня так рано?
— Сам удивляюсь. Вечер — без заседаний, без совещаний… Решил почитать газету на диване дома.
— С небольшим храпом? Он засмеялся.
— Небольшой — не в счет. Она села рядом.
— Ты видел, какая погода?
— Отличная. Снег, холодок. Давно мечтал о такой погоде.
— Тогда одевайся и пойдем в сад. Дети катаются на санках, мы поиграем с ними в снежки. Ты всегда любил бросать в меня снегом. Или слепим у яблони снежную бабу.
Он поморщился.
— Оленька, не хочется. И надо дочитать газету. Она сказала с упреком:
— Сережа, ты совсем перестал заниматься детьми. Раньше они тебя не видели, потому что ты был в море, а теперь из-за твоих вечных заседаний и совещаний. Ты уходишь, когда они еще в постели, а когда возвращаешься, они уже спят. Он развел руками.
— Оленька! Работа есть работа.
Она хотела что-то возразить, но воздержалась. Он опять лег на диван и взял газету. Она сказала:
— Я принесла платье, заказанное к Новому году. Сейчас покажу.
Она ушла в спальню и вернулась в светло-сиреневом платье.
— Тебе нравится, Сережа?
Он бросил на нее рассеянный взгляд.
— Неплохое.
— Ты погляди лучше.
— Если поглядеть лучше — хорошее.
Она критически осматривала себя в зеркале.
— В ателье сказали, что самая модная модель, а мне кажется, мода не из удачных. Может быть, надеть на праздник старое темное?
— А какая разница — светлое или темное?
— Светлое — полнит, а от темного становишься худощавой.
— Надевай то, в котором ты остаешься сама собой. Она засмеялась.
— Глупый! Нарядно одеваться, значит, выглядеть не такой, какая ты от природы.
— В таком случае тебе лучше одеваться не нарядно. — Он посмотрел на часы и вскочил. — Пора собираться.
— Ты же сказал, что сегодня ни заседаний, ни совещаний. Неужели и одного вечера мы не можем провести вместе?
— От Кузьмы Куржака пришла радиограмма. — Он достал из бумажника сложенный вдвое листок. — Прочти, что он вытворяет.
Кузьма сообщал, что останется в океане до конца зимнего промысла. Он перешел с плавбазы на траулер «Хариус». Там один матрос заболел и возвращается на берег, Кузьма его заменит. Пусть о его здоровье больше не запрашивают, он знает, что оно никого не интересует. А потерянные деньги он заработает сполна и возвратит до копейки, так что могут не беспокоиться.
— Возмутительная радиограмма! — сказала Ольга Степановна. — Твой любимец Куржак провоцирует ссору с женой. За что ты его так превозносишь?
— Работник он отличный. Не отмечать его я не мог.
— Хочешь отнести радиограмму сам? Может, я пойду с тобой?
— Буду рад. Разговор предстоит не из легких.
Она набросила пальто, Соломатин надел фуражку. Дети, игравшие в саду, кинулись к отцу и потребовали, чтобы он покатал их в санках по улице, им одним выходить на улицу запрещалось. Соломатин обещал покатать в другой раз, сегодня он занят.
В большой комнате у Куржаков был Степан, на коленях у него сидела четырехлетняя Таня, он ей рассказывал что-то такое, от чего она хохотала. Гавриловна у стола чинила Танино платьице. Из соседней комнаты вышел Куржак, из другой выбежала Алевтина. Она так побледнела, увидев Соломатина, что он поспешно сказал:
— С Кузьмой все в порядке. Он выздоровел.
— Наконец-то! — с облегчением воскликнула Гавриловна. — Целую неделю лежал, уже не знали, что думать!
— Выздоровел? — с недоверием переспросил Куржак. — А почему молчит? Лина две радиограммы отбила — не отвечал. Мать от себя недавно послала — опять ни слова.
Алевтина все больше бледнела. Она медленно проговорила:
— Что-то от нас скрывают! Сергей Нефедович, вы пришли не случайно!
— Наша радиостанция приняла радиограмму от Кузьмы. Я принес ее.
Он протянул радиограмму Куржаку. Алевтина выхватила листок, громко прочла вслух, еще раз в молчании перечла про себя, потом отдала листок отцу. Куржак, качая головой, сказал: