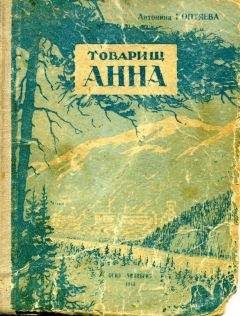В это время Хунхуз споткнулся, громко звякнув подковой. Анна натянула поводья. Она держалась в седле непринуждённо, как и три месяца назад, и, казалось, не было оснований тревожиться за неё в пути, но Уваров вдруг спрыгнул со своего коня и, забегая ей вперед, крикнул:
— Стой, Анна Сергеевна! Расковался твой разбойник!
Уваров подошёл к Хунхузу, сильной рукой захватил его ногу, поднял её и снял подкову, заломившуюся в сторону на одном гвозде.
— Может, возьмёшь на счастье? — пошутил он.
— Давай! — сказала Анна. — Я ведь и вправду суеверная. Не очень, а так чуть-чуть. Во всяком случае, все бабьи сплетни-присказки на памяти у меня... заговоры, привораживания, отгадки всякие... Слова-то, Уваров, какие подбирались! У меня бабушка слыла мастерицей зубы заговаривать, кровь останавливала, — продолжала Анна, выждав, когда Уваров сел на свою лошадь и двинулся рядом. — Помню, мне лет десять тогда было, принесли к нам из тайги охотника-медвежатника. Такой статный детина, добрый молодец, о таких только в песнях поют... А медведь поломал его страшно и кудри вместе с кожей спустил ему на лицо. Крови под носилками — целая лужа... а бабка вышла в сенки, глянула да и говорит: «Моё дело — кровь останавливать, а коли она вытекла, я над ней не властна». Он, охотник-то, тут же в сенках и умер.
— Ну? — спросил Уваров, с тревогой поглядывая на Анну.
— Ну, я, девчонка, испугалась, конечно. Ночью у меня озноб сделался и сон пропал. Этот охотник у нас бывал иногда и всегда посмеивался: «Подрастёшь, Анна, — замуж возьму». Дома дразнили меня невестой... И вот лежу я на печке с бабкой — на лавке одна спать побоялась, — сама плачу, дрожу вся. Жалко мне было охотника. Бабка меня с уголька взбрызнула, потом начала слова какие-то чудные наговаривать. И стало мне смешно, засмеялась я сквозь слёзы. А бабка говорит: «Ну, вот, теперь и его душеньке полегче. Не может душа терпеть, когда над её мертвым телом детские слёзы ночью проливаются. Слепнет она — душенька — и дорогу к райскому саду теряет». Интересная была у меня бабка, и так она верила во все эти присказки, что, слушая, не хочешь, да поверишь. Тогда же лечила она меня и от бессонницы своими, особенными словами...
— И действовало? — спросил, улыбаясь, Уваров.
— Ещё как!
— А к чему ты о бабке вспомнила?
— Да вот подкова... Хотя нет, не подкова. Не раз я бабку свою вспоминала в последнее время. Думала... не зря они, наши бабушки, выдумывали всякую всячину. Когда! душа горит... хочется её полечить чем-нибудь... словом таким, за сердце хватающим. Они и верили. Им-то нельзя было не верить. Им-то ничего больше не оставалось. А у нас... — Анна круто осадила коня и повернула его обратно. — Смотри, Илья, — сказала она.
Перед ними, как дно огромной реки, высохшей в незапамятные времена, лежала на глубине заросшая лесами долина ключа Звёздного. Горы, окружавшие долину, отлогие, если смотреть на них снизу, теперь вдруг выросли и теснили её со всех сторон, смыкаясь вдали неровными хребтинами. Стадо допотопных чудовищ, окаменевших среди вечного молчания. Ни жилья, ни дорог. Только на груде камней, на вершине гольца, сиротливо торчала вышка-тренога, поставленная геологами. Анне вспомнился рассказ Андрея о медведе, что три ночи подряд приходил, разламывал и опрокидывал эту вышку, пока её не установили крепко-накрепко.
— «Здесь будет город заложен!» — с шутливой торжественностью провозгласил Уваров, отыскивая глазами знакомый рельеф Долгой горы. — Правда твоя, Анна Сергеевна: то была присказка, а сказка только теперь начинается. Вот проведём сюда шоссе, явятся люди... тысячи людей с машинами, с цветами, с ребятишками. Недаром давеча толковали мы про сады. Будут здесь сады! Не райские, конечно, но такие, где живому человеку отдохнуть можно будет.
— Фабрику поставим! — в тон Уварову откликнулась Анна. — Миллионное строительство развернётся. Ты смотри, какое здесь сочетание природных условий: и лесу строевого непочатый край, и площадь по долине раздольная, и воды вдосталь... А на россыпи шахтовые работы... — Анна умолкла, глядя вниз.
Ей уже виделось, как поднимались из дремучих чащоб шахтовые копры, крыши домов вырастали среди островков бывшего леса, а выше всех вставали над долиной светлые корпуса фабрики. А там вон ляжет широкая лента шоссе. Мощная сеть электрических проводов опояшет горы...
«Ведь всё это Андрей!» — неожиданно подумала Анна, но тут же у неё возникла другая мысль: он уходит от неё!
— Всех переупрямил! — как будто угадав мысли Анны, сказал Уваров. — Я вот смотрю на эту дикую сторонку и думаю: какая жизнь здесь возникнет! Россыпь отработаем в два-три года, потом драги по ней пройдут — и всё, а рудник, да ещё с таким золотом — ведь это же целый переворот в тайге! Может быть, и центр приисковый сюда переведём. Целый жилой район вновь возникнет. Ещё одно белое пятно на карте исчезнет.
Уваров посмотрел на Анну и, заметив выражение беспокойства в её лице, но не совсем угадав его, сказал:
— Я ведь не скрываю, что уговаривал Андрея повременить с этим делом, и даже того не стыжусь, что в последнее время разуверился в нём. Говорить теперь другое — значит, обвинять себя в пакости. А мы просто боялись погнаться за журавлём в небе, у Андрея же в этой погоне вся цель была, весь смысл, и он, как настоящий, убеждённый в своей правоте работник, пошёл напролом и оказался прав. Честь и хвала ему за это!
— Да, конечно! — сказала Анна и отвернулась.
Со дня на день Анна откладывала объяснение с Андреем, хотя видела неизбежность разрыва и ненавидела себя за слабохарактерность, за надежду на какой-то лучший выход из своего мучительного положения.
«Надо объясниться! — решительно говорила она себе. — Да, да, надо объясниться. Так дальше нельзя. Это невозможно! Так я превращусь в сварливую бабу, закисну, состарюсь, начну хандрить...»
Она возвращалась с шахты, где устанавливали ленточный транспортёр. Погода стояла бешеная: солнце, жара и ветер, поднимающий вихри пыли.
Ветер забегал Анне навстречу, кружил мусор и жёлтые листики, опавшие с кустарников, перебирал и колебал, как струны, провода на столбах. Провода сдержанно гудели, и от их унылого гудения делалось совсем тоскливо.
Анна вспомнила, как в прошлом году, в это же время, они с Андреем ходили к разведчикам за ближний перевал, как отдыхали под чёрной елочкой и какое бледное небо смотрело на них сквозь нависшие шалашом еловые лапы и голые голубые ветви осинника. Теперь от этого воспоминания хотелось плакать.
Ветер отгибал полу лёгкого пальто Анны, открывал край её шерстяной юбки. Она шла, жмурилась от пыли и всё думала о себе и об Андрее. Вчера он впервые нагрубил Клавдии, и та целый день ходила с красными от слёз глазами.
«Ему тяжело теперь с нами, со мной, — думала Анна, — тяжело, но он молчит. Он хочет, чтобы я сама...»
Нервное озлобление охватило её, и, всё более озлобляясь, она вспомнила, что теперь часто, придя домой с работы, он беспокойно ходит по комнатам, не снимая кепи. Или так же, в кепи, присядет у себя на диване. Он совсем забросил работу над диссертацией, мало ест, просыпаясь по ночам, подолгу лежит без сна, тревожно вздыхая.
«О чём же ему вздыхать? Работа дала блестящие результаты, в сердечных делах счастлив. Значит, только я мешаю... моё присутствие давит его! Хорошо, я всё возьму на себя, — решила Анна с горестной гордостью. — Я отпущу его. Видно, и вправду клетка оказалась тесной».
Было совсем поздно, когда Анна, осмотрев на конном дворе лошадей, пригнанных из Якутска, возвращалась домой. Она шла тихо, опустив голову: она не спешила домой, где ей было тягостно теперь, где нужно было притворяться спокойной перед Мариной и перед теми, кто заходил к ним.
Вдруг словно кто толкнул Анну. Она прижала ладони к груди и остановилась: из переулочка вышли Андрей и Валентина. Они шли, держась за руки, касаясь друг друга плечами. Имя Кирика, произнесенное Валентиною, дошло до сознания Анны, и Анна услышала:
— Обманывать — спаси бог.
У них хватало стыда ещё и говорить об этом! Они могут вышучивать!..
Анне хотелось догнать их, наговорить им злых, горячих слов, но она продолжала стоять с полуоткрытым от удушья ртом.
«Я увижу, как они будут целоваться, — эта мысль сорвала Анну с места. — Тогда я скажу им... Я всё им выскажу!..»
Но, чтобы увидеть, надо было итти тихо, надо было прислушиваться, а кровь звенела в ушах Анны, и туман застилал ей глаза. Она не умела подсматривать. Вместо того, чтобы осторожно приблизиться к ним, она, отвернув лицо, точно стыдилась взглянуть, обогнала их.
— Какая я несчастная! Какая несчастная! — повторяла она, вся дрожа.
Всё тем же быстрым шагом, не разбирая дороги, Анна прошла мимо домов засыпающего посёлка, мимо шахтовых отвалов, где чернели повсюду провалы ям и канав, и казалось, ни один камень не ворохнулся под её ногой. Она опомнилась далеко в лесу.