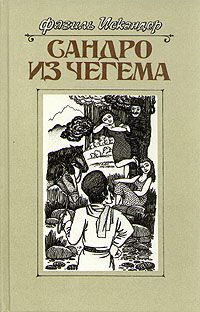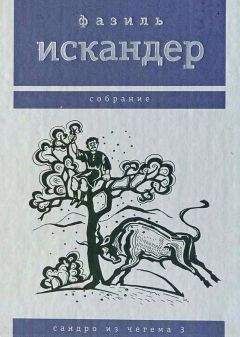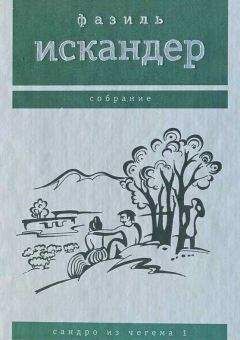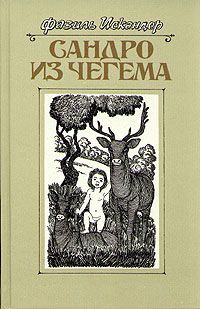– Нет, – сказал Кязым, – ты на один меньше знаешь.
– Давай посчитаем, – сказал Бахут, – говори, сколько ты знаешь!
– Я знаю абхазский, – начал Кязым, – мингрельский, грузинский, турецкий и греческий. Пять получается!
– Я тоже, – сказал Бахут, – знаю пять языков. Мингрельский, грузинский, абхазский, турецкий и… русский тоже.
На этом-то как раз Кязым его собирался поймать. В Абхазии русские в деревнях не живут, и поэтому они оба очень плохо знали русский язык. Но Бахут его знал еще хуже, чем Кязым.
– Значит, русский тоже знаешь? – переспросил его Кязым.
– Ну так, по-крестьянски знаю, – сказал Бахут, не давая себя поймать, – что нужно для хозяйства, для базара, для дороги – все могу сказать!
– А ты помнишь, когда мы продавали орехи в Мухусе, и у тебя разболелся зуб, и мы пришли в больницу, и что ты там сказал доктору? При этом, учти, доктор была женщина!
– Ты настоящая сушеная змея, – сказал Бахут, – двадцать лет с тех пор прошло, а он еще помнит. Я тогда пошутил.
– Ох, Бахут, – сказал Кязым, – разве человек шутит, когда у него болит зуб?
– А вот я такой. Я пошутил, – сказал Бахут, хотя уже понимал, что Кязым от него не отстанет.
– Ох, Бахут, – сказал Кязым, – ты нечестный человек. Ты тогда сказал этой женщине такое, что она нас чуть не прогнала. Повтори, что ты тогда сказал по-русски!
– Подумаешь, двадцать лет прошло, – напомнил Бахут смягчающее обстоятельство.
– Повтори, что ты сказал тогда по-русски.
– Ты сушеная змея, – сказал Бахут, понимая, что теперь Кязым от него не отстанет.
– Повтори, что ты тогда сказал по-русски!
– Доктор, жоп болит, – насупившись, повторил Бахут.
– Ох, Бахут, опозорил ты меня тогда, – отсмеявшись, сказал Кязым, – но сейчас-то хоть ты знаешь, как надо было сказать?
– Конечно, – сказал Бахут и вдруг почувствовал, что забыл. – Знал, но забыл. Кязым это сразу понял.
– Тогда скажи!
– Ладно, хватит, лучше давай выпьем, – сказал Бахут, оттягивая время, чтобы припомнить правильное звучание слова.
– Ох, Бахут, опять хитришь!
Бахуту показалось, что он вспомнил.
– Зоп болит, надо было сказать, – проговорил Бахут и сразу же по выражению лица Кязыма понял, что промахнулся.
Кязым долго хохотал, откидываясь, как при питье, и, разумеется, не падая, на что Бахут даже не рассчитывал.
– Ох, Бахут, уморишь ты меня, – отсмеявшись и утирая глаза, сказал Кязым.
– Тогда скажи, как надо! – раздраженно попросил Бахут, пытаясь хоть какую-нибудь пользу извлечь из своей неловкости.
– Зуб болит, з-у-у-б! – вразумительно сказал Кязым. – У-у-у! За двадцать лет не можешь запомнить!
– С тех пор у меня зубы не болели, – ворчливо сказал Бахут. И добавил: – Что за язык – зоб, зуб…
Он стал припоминать, чем бы подковырнуть Кязыма. Но как назло, сейчас ничего не мог припомнить. И тогда он решил вернуться к детям Кязыма, о которых он уже говорил.
– Ты сушеная змея, – сказал Бахут, – ты ни разу в жизни не посадил на колени своего ребенка.
– Для сушеной змеи я слишком много выпил, – сказал Кязым.
– Ты лошадей любил больше, чем своих детей, – сказал Бахут, чувствуя, что можно эту тему еще развить, – ты своих детей никогда не сажал к себе на колени, ты лошадей больше любил…
– Да, – сказал Кязым, – я лошадей сажал к себе на колени.
Но Бахут его шутки не принял, он ринулся вперед.
– Ты всю жизнь лошадей любил больше, чем своих детей, ты чуть не умер, когда твоя Кукла порченая вернулась с перевала!
– Как видишь, не умер, – сказал Кязым. Он не любил, когда ему об этом напоминали.
Бахут почувствовал, что хватил лишнее, но ему сейчас ужасно было жалко детей Кязыма, так и не узнавших, как он считал, отцовской ласки.
– Ты сушеная змея, – сказал Бахут, чувствуя, что еще немного – и он разрыдается от жалости к детям Кязыма, – ты ни разу за всю свою жизнь не посадил на колени своих бедных детей…
– Зато я знаю, кого ты на колени сажаешь, – сказал Кязым, неожиданно переходя в наступление.
Бахут пошаливал с вдовушкой, жившей недалеко от его дома, но он не любил, когда ему об этом напоминали. Он сразу отрезвел, насколько можно было отрезветь в его положении, и забыл о детях Кязыма.
– Нет, – сказал Бахут сухо, – я никого на колени не сажаю.
Он не любил, когда Кязым ему напоминал о вдовушке, с которой он пошаливал, потому что она была на два года старше его.
– Не вздумай сейчас к ней идти, – предупредил Кязым, – сейчас тебе нужен большой таз. Больше ничего не нужно. А большой таз тебе жена поставит возле кровати.
– Большой таз мне не нужен, – сказал Бахут, насупившись, – большой таз тебе нужен!
Он не любил, когда Кязым ему напоминал о вдовушке, с которой он пошаливал. Особенно он не любил, когда Кязым напоминал ему о вдовушке и о жене одновременно, потому что вдовушка была на два года старше его и на двенадцать лет старше жены.
– Когда дойдешь до развилки, – сказал Кязым и для наглядности, поставив кувшин на землю, стал показывать руками, – так ты не иди по той тропинке, которая слева…
– Что ты мне говоришь! – вспылил Бахут. – Что я, дорогу домой не знаю, что ли?!
– Когда подойдешь к развилке, – вразумительно повторил Кязым и снова стал показывать руками, – по левой тропинке не иди. Иди по правой – прямо домой попадешь. Ты еще помнишь, где у тебя правая рука, где левая?
– Не заносись, Кезым, – гневно прервал его Бахут, – ты когда выпьешь, всегда заносишься! Я ненавижу людей, которые заносятся, как сушеная змея!
Шарда а-а-мта, шарда а-а-мта… –
запел Кязым абхазскую застольную, а Бахут некоторое время молчал, показывая, что на этот раз его не поддержит. Но забыл и стал подпевать, а потом вспомнил, что не хотел подпевать, но уже нельзя было портить песню, и они допели ее до конца. После этого они выпили еще по стаканчику.
За яблоней разгоралась заря. Корова, которая паслась перед ними, теперь паслась позади них, и оттуда доносился все тот же сочный, ровный звук обрываемой травы. Буйволица на скотном дворе, стоя возле орехового дерева, мерно покачиваясь, продолжала чесать бок.
«Большое дело, – подумал вдруг Кязым, – требует большого времени, точно так же, как буйволице нужно много времени, чтобы прочесать свою толстую шкуру».
Снова потянул утренний ветерок, и петух, может быть, разбуженный им, громко кукарекнул с инжирового дерева, где на ночь располагалось птичье хозяйство. Две курицы слетели вниз и закудахтали, словно извещая о своем благополучном приземлении, и петух, как бы убедившись в этом, пыхнув червонным опереньем, шлепнулся на землю и громко стал призывать остальных кур незамедлительно следовать его примеру. В козьем загоне взбрякнул колоколец.
Кязым и Бахут были пьяны, но нить разума не теряли. Во всяком случае им казалось, что не теряют.
– Знаешь что, – сказал Кязым, – я чувствую, что ты не сможешь отличить левую руку от правой. Потому я тебе сейчас налью немного вина на правый рукав, чтобы ты, когда подойдешь к развилке, знал, в какую сторону идти.
С этими словами он взял покорно поданную ему правую руку Бахута и стал осторожно из кувшина поливать ему на обшлаг рукава. Бахут с интересом следил за ним.
– Много не надо, – вразумительно говорил ему Кязым, осторожно поливая обшлаг, – а то жена подумает, что человека убил.
– Я тебя все равно рано или поздно убью, – сказал Бахут и протянул ему вторую руку. Кязым машинально полил ему обшлаг второго рукава.
И тут неудержимый хохот Бахута вернул Кязыма к действительности. Он понял, что Бахут его перехитрил.
– Ха! Ха! Ха! – смеялся Бахут, вытянув руки и показывая на полную невозможность отличить один рукав от другого. – Теперь в какую сторону я должен поворачивать?
– Ох, Бахут, – сказал Кязым, – я устал от твоего шайтанства.
– Еще ни один человек Бахута не перехитрил! – громко сказал Бахут, вздымая руку с красным обшлагом, и, решив на этой победной ноте закончить встречу, отдал Кязыму свой стакан.
Бахут пошел домой, а Кязым стоял на месте и следил за ним, пока тот переходил скотный двор, и, когда Бахут скрылся за поворотом скотного двора, стал прислушиваться – не забудет ли он захлопнуть ворота. Там начиналось кукурузное поле, и скот мог потравить его. Хлопнули ворота – не забыл.
Уахоле, уахоле, цодареко… – протянул Кязым песню и замолк, прислушиваясь к тишине. Чегемские петухи вовсю раскукарекались. Через несколько долгих мгновений раздался голос Бахута, подхватившего песню.
Звякнув стаканами, Кязым взял их в одну руку и, приподняв кувшинчик, пошел к дому своей все еще легкой походкой.
Через месяц бывшего председателя колхоза Тимура Жванба, предварительно лишив его звания Почетного Гражданина Села, судили и дали ему десять лет. Невинно осужденных бухгалтеров выпустили. В том же году жена Тимура, продав свой дом, перебралась к дочери в Кенгурск. Так закончилась история ограбления колхозного сейфа.