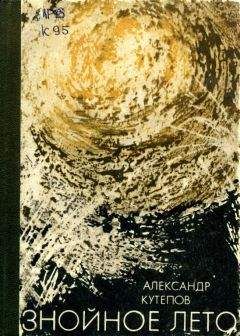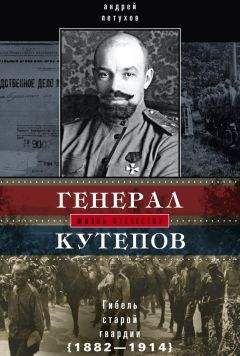Ольга не отвечает.
— Впрочем, разговор это не больничный. Давай не залеживайся тут, поскольку аппендицит есть не болезнь, а сплошное баловство. Так что сразу домой, да?
— Конечно, конечно! — заторопилась Ольга. — Только домой.
Дверь в палату открылась. Заглянула женщина в изящном белом халате, высоком белом колпаке.
— Молодой человек! — строго сказала она. — Я пустила вас только на пять минут. Больной нужно отдыхать. Прошу зайти ко мне, шестой кабинет на первом этаже.
— Да, да! — Алексей вскочил. — Я сейчас.
Дверь закрылась.
— Алеша, это и есть Ираида Григорьевна, — сообщила Ольга. — Она слишком слушает маму. Они давние подруги. Представляешь, вчера Ираида Григорьевна привела целую комиссию. Три профессора на один аппендицит! Неслыханная роскошь. Они измучили меня, извертели всю.
— С этой Ираидой Григорьевной мы уже знакомы, — признался Алексей. — Я назвал ее формалистом, бездушным человеком и еще как-то. Она меня — нахалом.
Ольга засмеялась. По-настоящему, весело.
— Иди, Алеша, иди, — поторопила она. — Я извинюсь за тебя.
— Я сам могу это сделать. Что тебе принести? Я сейчас смотаюсь в магазины и на рынок.
— Ничего мне не надо. Мама всю тумбочку провизией забила… Ступай, Алеша. Наклонись, я тебя поцелую.
«Все хорошо, что хорошо кончается», — подвел итог Алексей. Стремительно шагая по длинному больничному коридору, он думал, что все неясное, плохое, унылое и грустное теперь позади. Теперь домой, снова за работу, готовить южный и сибирский десанты и ждать Ольгу. Глянул на часы. Ого! Надо поторапливаться.
Вот и шестой кабинет с невыразительной пожелтевшей табличкой «Зав. отделением».
Ираида Григорьевна сидит за столом, как некая богиня милосердия — величественна, строга, но добра и великодушна, если не обманывает первое впечатление.
— Я вас слушаю, — сказал Алексей.
— Проходите, садитесь, — пригласила она. — Сюда, пожалуйста. Вас Алексеем зовут, так ведь?
— Алексей, Алеха, Леха, как вам угодно.
Ираида Григорьевна начала перебирать на столе кипу больничных бумаг, но тут же оставила их, протянула Алексею пачку сигарет. Он отрицателе но мотнул головой.
— Ну и правильно, что не курите, — похвалила Ираида Григорьевна, но сама закурила, затягиваясь жадно и нервно.
Только теперь Алексей вспомнил, что прежде несколько раз мельком видел ее в доме тестя и тещи.
— Так я слушаю, — напомнил он. — У меня самолет в половине пятого. К утру я должен быть дома.
— Да, да… С Валентиной Юрьевной мы давние подруги. Она милая прелестная женщина. Олю я знаю с рождения. Это милый прелестный ребенок, — Ираида Григорьевна говорила отрывисто, вроде через силу.
Алексей уже начал злиться.
— Биографию Валентины Юрьевны, а тем более Ольги я знаю достаточно подробно. Могу добавить, что и Роман Андреевич тоже милый и прелестный мужчина. Не так ли?
— Понимаете, Алексей, в чем дело? — Ираида Григорьевна погасила в пепельнице окурок и тут же взяла новую сигарету. — Вы муж Оли, вам я должна сказать, но надеюсь, что об этом не узнают ни Оля, ни Валентина Юрьевна. С Олей не все благополучно. То есть очень плохо.
«Сколь странен этот мир, сколько страстей вокруг самой заурядной операции», — подумал Алексей и не уловил еще несколько отрывистых фраз, сказанных Ираидой Григорьевной.
— Что значит — плохо? — переспросил он.
— У нее опухоль, — тихо повторила она. — Теперь, кажется, слишком поздно. Так говорят специалисты.
Она еще что-то говорила, но он не слышал, видел только, как открывается ее рот, как катятся из глаз слезы.
1
Неожиданный среди знойных дней заморозок (синоптики тут же подсчитали, сколько десятилетий не было столь резкого перепада температуры) добил и без того чахлую кукурузу — основную силосную культуру. В одну ночь из зеленых стали коричневыми ее листья и жестяно зазвенели на ветру.
Начали в области убирать сохранившиеся зерновые. Гектар давал один-два, от силы три центнера щуплой иссушенной пшеницы.
В конце июля и первых числах августа на всех больших и малых станциях грузились на платформы тракторы, автомобили, сенокосилки, прессы, навесные приспособления, передвижные сварочные аппараты, походные кухни, тюки с постелями, ящики с посудой. Железнодорожные составы большой скоростью двинулись на восток и на юг — в Краснодарский край, Новосибирскую, Томскую, Одесскую, Херсонскую области.
Теперь в разговорах селян только и слышалось: солома, солома, солома. Лишь на Кубани предполагалось запрессовать, доставить к железной дороге и погрузить в вагоны ни много, ли мало, а сто пятьдесят тысяч тонн этого добра, которое у себя дома прежде гнило по краям полей, сжигалось или использовалось как добавка к более ценным кормам. Финансисты, прикинув приблизительную стоимость привозной соломки, хватались за голову. Но что делать?
Собрались в дорогу и хомутовцы. На первую смену сроком на месяц было назначено двадцать человек под началом инженера Рязанцева. Басаров, узнав, что милостями Глазкова он включен в эту команду на главную роль машиниста пресса и первого пылеглотателя, для начала сделал свое обычное в таком случае заявление. Что он в гробу видал эту солому и так далее, но уже непечатное. Но как степняка манит горький запах полыни, так и Басаров быстро обрел чуть не позабытое чувство дальней дороги. Посветлел лицом, задорно поднял голову, засуетился, залетал по деревне, едва касаясь грешной земли, ничего не слыша и ничего не видя. Реальный нынешний деревенский мир сразу заслонили видения общих и плацкартных вагонов, ожиданий на вокзалах, времянок, палаток, костров, пугающей и чарующей неразберихи кочевой жизни, где человек обретает зримую силу творить из хаоса земную бетонно-железную твердь и моря, и свет. Сердце гулко торкается в ставшей вдруг тесной груди, дает новую и новую энергию. Все-то сейчас мило, все-то дорого.
— Нет, сколь волка не корми — все в лес смотрит, — сказала Клавдия, но без злости, без нервов, а просто так, как о жизненном факте. Егор Харитонович не взвинтился по старой привычке, не заорал, а скромно потупился и ответил ей, что пословица насчет исправления горбатых могилою придумана не зря.
Он выволок из чулана свой чемоданишко и чуть не прослезился над ним — потертым, битым, мятым, ободранным, пригодным быть не только вместилищем походного барахла, но и сиденьем, когда не на чем сидеть, столом, когда нечем больше заменить стол, подушкой, когда некуда больше приклонить буйную голову.
— Соскучился, дурачок? Заждался? Ничего, наверстаем, между протчим, — приговаривал Егор Харитонович, сбивая мокрой тряпкой пыль с боков чемодана-ветерана. — На Кубань с тобой слётаем. Ты там не был и я там не был. Тебе интересно будет, а мне, между протчим, — вдвойне.
К вечеру он сходил в баню, напарился до одури, потом уговорил чекушку водки, значимость которой усилилась тем, что купила ее Клавдия — без просьб и нытья, а по собственной инициативе. Горячий и мокрый после бани, он весь расслабился и стал философски-мечтательным.
— Вот говорят, что нету у человека души, — ударился в рассуждения Егор Харитонович. — Брехня, между протчим! Не у всякого-разного, но — есть! С большим выбором, на тыщу народу одна-две приходится. А мне вот досталась. Но не нашенская. Я думаю, от бродяжки какого отлетела за ненадобностью и ко мне присобачилась. Тянет и тянет, сосет и сосет. Напропалую командует. С ней ухо востро держи. Чуть зевнул — она тебя раз по башке! Ты живой, но без сознания. Тем моментом куда она захотела, туда и потащила. Вроде не желаешь, а идешь, бегом летаешь…
Девчонки ластятся к нему, удивленные не тем, что отец уезжает, а тем, что его отъезд не сопровождается, как бывало, криком и руганью. Один только Витька взревывает и требует:
— Я тоже поеду!
— Поедешь, поедешь, — уговаривает его Клавдия. — В папочку угодишься — весь свет облётаешь.
Но говорит она не сердито, не в досаду Егору, а так просто. Если бы он сам по себе сорвался, тогда другое дело. А тут по нужде, не один — тысячи едут.
— Матери чтоб пособляли, — Егор Харитонович дает наказ девчонкам. — Вас орава, она — одна. А ты, архаровец, — обращается он к Шурке, чтоб без всяких-яких! Понял?
— Ладно, — соглашается Шурка.
Клавдия взялась укладывать чемодан.
— Белья-то сколь положить? — спросила она. — Три пары хватит?
— Я что — намываться туда поехал? — засмеялся Егор Харитонович. — Положи одну смену, там постираю. Нам не привыкать себя обихаживать.
— Брюки хорошие положу, — вроде не слушает его Клавдия. — В кино когда пойдешь или собрание какое. А, Егорушка?
— Какое тебе кино? Знаю я, как ее матушку прессуют. За день навалохаешься — сапоги снять силы не хватит.