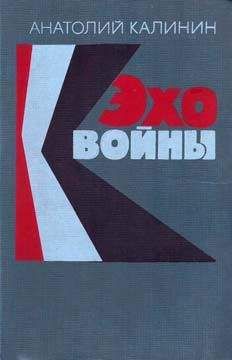Дунай и правда разлился после дождей так, что левый берег лишь угадывался в дымке. И вообще никакой он был не голубой, а красновато-бурый. Навсегда запомнил Луговой и то, как, взглянув вслед за комкором в окно, командиры тут же молча стали покидать КП. С этим приказом и Луговой вернулся в свой полк, а наутро уже очнулся в медсанбате у Марины.
Вот только никак не мог он вспомнить теперь дальнейших слов песни. И только что они начнут горячими родничками пробиваться сквозь корку памяти, как опять надвинется гремящая лавина с гор.
— Марина!
Ответа нет, но он чувствует, что, слушая музыку, она слышит и его.
— До сих пор не могу понять… Все офицеры корпуса звенели шпорами вокруг военврача Агибаловой, а она предпочла…
— Не задавайся. Сам же и увез.
— Это я хорошо помню. Кажется, это единственный раз мы вдвоем ехали на одной лошади. На Кавказе это называется умыканием. И притом без всякого выкупа. Но и ты тогда держалась за меня обеими руками достаточно цепко.
— Выкуп был. Рано или поздно за все приходится платить.
— Ну, это уже совсем непонятно.
— Давай помолчим. Интересно, что говорят об этом девчата. Конечно, подслушивать — грех, но мы же не виноваты, что говорят они так громко.
Девчата и в самом деле ничуть не беспокоились, что их могут услышать. Их голоса пробивались сквозь самые бурные наплывы звуков.
— Ее он и на конкурсе играл. И вообще это его коронный номер. С двенадцати лет.
— А это, Абастик, правда, что ему приходилось ее и в ресторане за котлеты играть?
— Не знаю, теперь все могут написать. То не удостаивали даже в хронике, а сейчас пишут, что он больше всего бифштекс с репой любит. Но, может, и правда. Родители у него не из знатных. Мать — учительница музыки, и отец — не то землеустроитель, не то агроном. Но порция котлет за Двенадцатую рапсодию Листа — это еще не так плохо. Наши ребята ходят на сортировочную арбузы сгружать.
— А мы с Валькой на совхозной бахче их в машины грузили. Ничего трудного.
— Постой, опять тема любви… Там, там, там, там, там, там, там, там, там, там… Как будто старый мадьяр, а может, и цыган перебирает струны. Слышишь, как этот мальчик берет дуодециму левой рукой? Если бы ты видела его пальцы! Вот так запросто сграбастает — и тот же оркестр. Ты спать не хочешь?
— Нет, нет, еще же рано.
— А наши агрономия с медициной уже, должно быть, ко второму сеансу своих сновидений подходят… И, рассказывая, он то чуть слышно пощипывает струны, то как будто хочет их порвать… Это произошло в дни моей юности. В те дни, когда сердце могло взбираться и на самую высокую из этих гор. Теперь все это уже в прошлом, но жизнь моя была бы совсем безотрадной, если бы этого не было тогда. Юность и вообще прекрасна, но когда она пробуждается для любви, она способна на все… А это уже тема судьбы, как будто надвигается гроза. Никак не поверю, что Петр Ильич мог Листа не любить.
И ее голос надолго теряется за натиском звуков. Странное при этом чувство испытывал Луговой. Самую настоящую зависть к своим детям. Никогда не жаловался на свою жизнь, а теперь лежал, уставясь глазами в темноту, и думал, как непоправимо обокрала его жизнь. Сказали бы ему и Марине двадцать лет назад, что наступит ночь, когда они будут лежать в этой комнате у реки и не разрывы фугасок или мин не будут давать им спать, не треск пулеметов, а рояль, гремящий в котловине между цепью правобережных придонских бугров и стеной левобережного леса. Самая восприимчивая часть его жизни была потеряна для музыки и еще для чего-то такого, что посещает человека лишь в молодости и уже недоступно бывает ему в другое время.
— А это, Наташа, уже трубы, скрипки, даже барабан. Юность веселится и пляшет в горах. Опять заграбастал дуодециму и — оркестр… Давай, моя радость, у этой корчмы, где стоят бочки с вином, и отпразднуем нашу любовь. А вот подъехали к корчме цыгане. Слышишь, бубны? И когда на экзамене в Джульярдской школе он выдал ее, вся комиссия обалдела. А до этого сидели с постными рожами. Опять тема судьбы. Как лавина в горах. Но мы, моя радость, уйдем от нее, поднимемся туда, где ничто уж не помешает ни любви, ни нашим танцам и песням… Но, может быть, Наташа, все это и не так. Каждый чувствует по-своему. А ты? — И, помолчав, Любочка заключает — Конечно, чтобы чувствовать музыку, надо уметь чувствовать любовь. Но я в твои годы уже была влюблена в Мишку Курдюмова в нашем дворе. Ты спишь?
Наташин ответ задержался. Должно быть, пережидает раскаты рояля. Она и в детстве не умела раздваиваться. Если заиграется — не дозовешься, если читает — становится глухой ко всему остальному. Любочка переспрашивает:
— Ты что же, заснула?
Тем временем и этот самый пастух или мельник заканчивает свою повесть в горах. Но проходит и еще некоторое время, прежде чем Наташа отвечает:
— А по-моему, если кому-нибудь рассказать о своей любви, она уже будет принадлежать не только тебе.
— Ну, не скажи. Я, когда влюбляюсь, всегда со Светкой Комаровой делюсь. А теперь давай спать. У меня глаза как засыпаны песком.
И за стенкой на веранде устанавливается тишина. Особенно непорочной кажется она после того, как смолк этот ураган звуков. Но первая же Любочка и нарушает ее:
— Наташка?
— Что?
— Это что шуршит?
— Ежики ходят через двор к Дону воду пить.
— А за Доном? Как будто плачет…
— Говорят, лисовин шатается по лесу, но точно не знаю. Давай, Абастик, спать.
— Да, сейчас… Натуля, а письма из Москвы сюда доходят на какой день?
— На четвертый.
— И авиа?
— И авиа. Но иногда и на третий.
— Если, Натулька, придет мне письмо, ты, пожалуйста, никому его, кроме меня, не давай. Хорошо?
— Хорошо, не дам. Спи.
— Конечно, там ничего такого нет, но ты правильно сказала, что об этом никто не должен знать. Но тебе, если хочешь, я дам почитать.
— Очень мне нужно.
И потом уже во всем доме ничто не нарушает тишину. Лишь слышно, как шатается в задонском лесу лисовин. Как будто что-то потерял и не может найти.
— Ты чему улыбаешься?
— Можно подумать, что ты умеешь видеть в темноте…
— А ты и не знал? Когда в Ньеридхазе разбомбили госпиталь, мне пришлось почти на ощупь накладывать на рану швы.
— Скоро ты и меня сделаешь своим медбратом.
— Не раньше, чем ты меня — агрономом.
— И я смогу замещать тебя на медпункте.
— Нет, серьезно, чему?
— Тому же, чему и ты.
— Да, растет Наташка…
— Ну, это не обязательно ее собственные слова. Что-то похожее я читал.
— Но она их запомнила…
— У нее всегда была хорошая память.
— Вот теперь они уже совсем угомонились. Спят.
Ураган за стеной отбушевал, девчата спали. Если приподнять голову, можно увидеть в окно вороненую спину Дона. Когда проходит теплоход, тень его с круглыми пятнами окон движется по стене, пока не скрывается за островом.
— А ты спишь?
После того как улеглась буря, особенно чиста тишина в доме, на Дону и в левобережном лесу. Спит хутор.
— Нет, не сплю, — вдруг говорит Марина.
— О чем ты думаешь?
И внезапно он слышит, как она тихо поет ему из своего угла:
Дунай-реченька, она, братцы, широкая,
Переправы да на ней нет,
Нет ни брода, ни парома.
Ни казачьего, братцы, моста…
Это уже не впервые, и все-таки он удивляется. Как будто кто-то настраивает их на одну волну. Но для этого обязательно нужно, чтобы опять возбудились — как сейчас от музыки — и пробились сквозь корку памяти эти горячие роднички.
— Удивительно, как это получается?
— Что?
— Вместе об одном и том же.
Она помедлила, и он насторожился, уловив в ее голосе перемену.
— В таком случае ты и о другом должен подумать.
— О чем?
— О том, что санитарная машина совсем не для того, чтобы возить в ней блоки моторов и всякие запчасти.
— Но ведь нужно было срочно отвезти их в «Сельхозтехнику» на ремонт, а ты же знаешь, что машин у нас пока мало. Совхоз молодой.
— И вообще вы ездите на ней на пленумы и на сессии, в Госбанк и в Сельхозснаб.
— Это только в грязь, а у нее два ведущих моста.
— Второй уже вышел из строя, доездились. И каждый раз потом изволь ее дезинфицировать. Не могу же я в таком рассаднике роды принимать.
— Но почему ты это мне говоришь? Скажи директору.
— Я уже ему говорила и еще скажу.
Он примирительно сказал:
— Марина!
Она не ответила, и, приподнимая от подушки голову, он повторил:
— Марина!
Бесполезно. Теперь уже она не пойдет ни на какие компромиссы. Такая она и на фронте была. Никогда, как говорится, личное от общественного не умела отделить.
А возможно, ее и в самом деле внезапно одолел сон. Лежала, разговаривала — и сразу как в яму провалилась. Как-никак, вероятно, большая часть ночи прошла. Ему бы перед рассветом тоже надо хоть немного поспать.