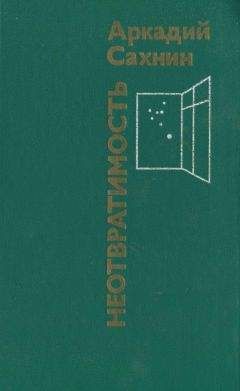— Далеко ещё до будки?
— До какой будки? — удивились девушки. — Здесь нет будок.
— Ну, до разъезда, что ли. — В его тоне слышалось явное пренебрежение.
— Хорошенькая будка! — рассмеялась та, что несла рейку.
Перебивая друг друга, девушки стали рассказывать, какой это сказочный домик.
Ему было приятно слушать. Чтобы определить, как вести себя дальше, осторожно спросил, почему разъезду дали такое несолидное название.
— Этого мы не знаем, — последовал ответ.
Андрей хотел было рассказать историю Бантика, но заговорила Валя. Так звали девушку с рейкой.
— Почему дали это название, неизвестно, а кто строил, знаем.
— Кто же? — вырвалось у Андрея.
— Очень хороший человек строил, — убежденно ответила она.
Андрей смутился.
— Построил и уехал, — продолжала она, — и никогда, наверное, не увидит своего разъезда.
— Ну и фантазерка вы! Почему же не увидит? — рассмеялся Андрей. Ему и в самом деле стало смешно. — Вы очень медленно, — неожиданно сказал он и, поблагодарив девушек, размашисто зашагал по шпалам.
Андрей напрасно тогда опасался за своё детище. Приняв у строителей разъезд, я решил сохранить его точно таким, как получил. Андрей увидел, что всё осталось по-прежнему. И краска такая же, и никаких фигурок с вёслами или теннисными ракетками. Он ненавидел эти неестественные серебряные фигуры — обязательную принадлежность почти всех станций.
Из окна дежурки я не узнал Андрея. Он стоял, глядя на дом, и радовался. Я не обратил на это внимания, потому что всякий новый человек, попавший к нам, всегда подолгу любуется разъездом.
Солнце заходило, но было похоже, что наступает утро. Возможно, от тишины и свежести леса, а может быть, от щебетанья птиц, какое обычно можно услышать только ранним утром.
Тишину нарушил сигнал приближавшегося поезда. Сняв со стены большое проволочное кольцо на рукоятке, я заправил в неё жезл — разрешение машинисту следовать дальше — и вышел на платформу. Свесившись на подножке, помощник машиниста ловко подхватил на руку протянутое мною кольцо. Подобрав сброшенный с паровоза жезл предыдущей станции, я направился к себе, когда услышал радостный крик:
— Трифон Карпович, товарищ Жиздров!..
Широко улыбаясь, бежал ко мне Андрей.
— Принимать разъезд приехал? — улыбнулся и я, пожимая ему руку.
Он благодарил меня так, будто домик принадлежал лично ему и был передан нам лишь на сохранение. Мы долго просидели в моём кабинетике. С радостью узнал он, что здесь в качестве стрелочника работает Хоттабыч. У него и поселился Андрей.
Дежурства отнимали немного времени. Почти каждый вечер он выкраивал часок, чтобы, захватив скрипку, отправиться на свою любимую полянку.
Иногда с ним уходила Валя. Она была студенткой техникума, находящегося в Матове, и у нас проходила геодезическую практику. Ему было приятно, что Валя любит и понимает музыку.
Все шло хорошо, пока не появился какой-то странный сигнал. Мы ничего не могли понять. Он раздавался через сутки в самые различные часы. Обычно перед разъездом машинисты давали только сигнал бдительности: один короткий гудок и один длинный. Так они предупреждали, что идёт поезд, чтобы дежурный вовремя встретил и вручил жезл. Другие сигналы на разъезде и не требовались, хотя существует их множество.
Паровозный язык выразителен. Сочетание коротких и длинных гудков дает возможность машинисту передать поездной бригаде и станционным работникам всё необходимое. Каждый сигнал мы знали, точно буквы алфавита. И как не может человек по своей прихоти придумать новую букву, так не придёт в голову машинисту изобретать новый сигнал. А это был бесспорно новый сигнал: короткий, длинный, два коротких. В служебной инструкции таких нет.
Кроме официально установленного значения, в сигналах есть нечто выработанное самими машинистами в течение десятилетий. И многие сигналы даются не так, как они записаны в инструкции. Даже школьнику из железнодорожного посёлка известно, например, что сигнал остановки — это три коротких гудка. Но, если он услышит просто три коротких, сразу поймет, что на паровоз забрался новичок. Квалифицированный машинист даст этот сигнал так: «Тут-ту-тууу!» Все три гудка будут разной тональности и продолжительности. Правда, иной раз можно услышать три совершенно одинаковых коротких и нетерпеливых, даже нервных «Ту-ту-ту!», но это будет не просто остановка. Это значит, что машинисту уже в который раз велят куда-то ехать, а путь занят, или он топку чистит, или ещё что-то мешает ему тронуться с места. И каждый железнодорожник поймет машиниста так: «Слышу, слышу, не приставайте, никуда не поеду.
Подойдите сами и всё увидите».
А послушайте, как машинист дает тот же сигнал остановки у закрытого семафора перед станцией. Какие там короткие! Целую минуту гремит. И станционные работники поймут его: «Эх, вы, зашились, даже на станцию впустить не можете! Из-за вас и пережог, и простой паровоза… Вот и выполняй с вами план!..»
Постоит машинист минут десять и снова даст сигнал остановки. Но значение его будет уже другое: «Ну, сколько же держать будете? Или хотите, чтобы я начальнику отделения пожаловался?» На станции опять поймут его, бросят в сердцах: «Ори сколько хочешь», а всё-таки начнут торопиться, чтобы скорее избавиться от этого крикуна.
Новый сигнал ни на что не был похож. Мы слышали его впервые. Сначала не придали ему значения, но, когда он стал регулярно повторяться, забеспокоились: наша дорога шла мимо разработок руды и имела специальное назначение.
Вскоре мы установили, что дает сигналы комсомолец Костя Громак. Это был способный машинист, но его многие недолюбливали за хвастовство, за то, что подчеркивал своё превосходство над другими. Если опытные механики брали тяжеловесы, Костя говорил: «Подумаешь, невидаль, да я больше увезу». Было в нём что-то неприятное.
Каждый машинист, как и положено, на разъезде снижал скорость. А Костя будто нарочно нёсся так, что, казалось, вот-вот кувырком полетят вагоны. Стоять с жезловым кольцом близко от несущегося поезда страшновато, а порой и небезопасно.
При очередном рейсе Андрей воткнул под жезл записку, предупредив, что, если в следующий раз скорость не будет снижена, он остановит поезд. Под жезлом, который Громак сбросил на обратном пути, Андрей нашёл ответ: «Если вы не справляетесь с работой, уступите её другому».
Была у Андрея и более веская причина с неприязнью относиться к Косте. Нам часто приходилось бывать на станции Матово. Как-то в ожидании попутной дрезины домой мы сидели с Андреем в станционном буфете. Туда же вошла группа паровозников, среди которых был Костя. Продолжая какой-то спор, компания шумно расселась. Разговаривали громко, не обращая внимания на других посетителей. Неожиданно в дверях появилась Валя. Она была в легком ярком платье, стройная, загорелая. Опустив глаза, подошла к буфету. Паровозники умолкли вдруг, проводив её взглядом. Валя взяла мороженое и села близ буфетной стойки.
— Вот это да-а! — протянул кто-то из паровозников. — К такой не подступишься.
— Подумаешь, невидаль, — с пренебрежением сказал Костя. — Захочу — в два счёта познакомлюсь.
— Пари!
— Пари! — протянул руку Костя.
— Надо подойти к ней, чтобы прекратить эту сцену, — поднялся Андрей… — Впрочем, пусть нахал останется в дураках. — И он снова опустился на стул.
Пари состоялось. Условия жесткие: Костя должен сесть за Валин столик и угостить её фруктовой водой. Если она охотно примет угощение и будет активно вести разговор, а на прощание подаст руку — значит, знакомство состоялось. Окончательное заключение выносил арбитр, один из компании, в объективность которого, очевидно, все верили.
Ничего зазорного в том, что девушка выпьет стакан воды, предложенный соседом по столику, Андрей не видел. Но он знал: Валя этого не сделает.
Костя подошёл к ней и что-то сказал. Она ответила небрежным кивком головы, не скрывая недовольства его приходом. Сев напротив, Костя снова заговорил. Она продолжала есть мороженое, точно слова его относились не к ней. Потом стала есть быстрее, и Андрей сказал:
— Сейчас уйдет. Как только поднимется, я пойду навстречу. Не стоит обращать на себя внимание, — посоветовал я.
— Верно, — согласился Андрей. — Да и интересно посмотреть, с каким видом он вернется к своим. Там уже хихикают.
Не успел Андрей закончить фразу, как ложечка в руках Вали замерла на полпути. Она взглянула на Костю и улыбнулась. Сначала едва заметно, потом широко и наконец рассмеялась, откинувшись на спинку стула.
Андрею нравилась открытая улыбка Вали и её смех. Я видел: ему стало больно смотреть. А Костя уже демонстративно требовал у официанта воду. Он налил ей и себе, и она, отпив несколько глотков, сама стала что-то рассказывать. Улыбка не сходила с её лица, и глаза были обращены к Косте.