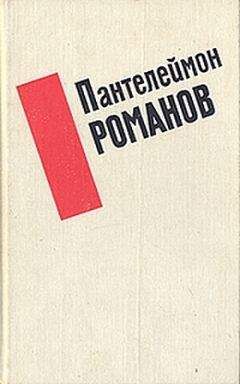Придерживался этого режима он вовсе не потому, чтобы здесь участвовало его желание, а просто он подчинялся доктору, как подчинялся епархиальной власти или Марье при перемене белья.
И он не тяготился этим. Совсем наоборот: если бы его теперь пустили на свет одного, без епархиального начальства, без Марьи и без звона, то он очутился бы в самом жалком положении.
Уходя, доктор передавал свои полномочия Анне Ивановне, и о. Федор беспрекословно подчинялся жене. На него странно действовали крик, приказание даже лица, не имеющего над ним никакой фактической власти.
Но иногда доктор долго не показывался, тогда Федору Иванычу начинало приходить в голову, что, в сущности, доктора бояться нечего. "Ну, что он может сделать? Что он кричит да хлопает себя по карманам? Штука какая?" — говорил уже вслух Федор Иваныч.
И у него уже появлялся порыв: разрушить оковы, в которые какие–то Владимир Карлычи, Сидор Карпычи заковали его собственную свободную волю. Какое он имеет право распоряжаться моей личной жизнью? Мое "я" принадлежит мне и никому больше, и содержание моего "я" никого не касается.
Теперь, когда его посадили на жестокую диету, о. Федор стал почему–то излишне часто повторять эти слова, как это делают люди, когда впервые ознакомятся с содержанием какого–нибудь слова, нового в их обиходе.
— Да что он мне за указчик такой! Он сначала найми, а потом приказывай! — говорил взволнованно о. Федор. Он почему–то особенно часто употреблял это слово н_а_й_м_и в своем пастырском, апостольском обиходе.
"Не желаю я, вот и все!" — И он сбрасывал с себя одеяло в знак того, что он разрушил оковы.
После одного такого бунта, выразившегося в нарушении режима, ему заметно стало хуже, так что все думали, что скоро конец.
Сам он первое время ничего не подозревал, так же спокойно, безмятежно лежал, водя глазами по потолку. Но потом, видя вокруг перемену в отношениях домашних к себе, он стал как–то странно изменяться.
Несмотря на полное отсутствие чуткости, о. Федор заметил что–то неладное: жена почему–то не бранила его, часто входила к нему с заплаканными глазами. А иногда он видел, что она, войдя в спальню, издали смотрела на него тем скрытым взглядом, каким смотрят на умирающих.
Один раз он встретился с ней глазами и, вдруг все поняв, почувствовал, как у него замерло сердце и под волосами стало горячо. Он не сказал ни слова, но как только жена вышла из комнаты, Федор Иваныч с испуганным лицом и что–то шепчущими губами сел на кровати и стал пробовать ноги, живот, со страхом ища признаков, по которым о_н_а, очевидно, видела приближение к_о_н_ц_а.
Потом, как бы отчаявшись и не зная, что делать, он с мольбой оглянулся на образ. Губы его что–то пробовали шептать, но, вероятно, не находили что; тогда он, спохватившись, достал из–под подушки книжечку в кожаном переплете, лихорадочно читал что–то по ней и жадно смотрел на образ, униженно качая склоненной набок облезшей головой.
Если кто–нибудь входил в это время в комнату и заставал о. Федора с изможденным лицом, перекосившимся от страха смертного, то ему становилось неловко, точно он застал человека на чем–то унизительном и постыдном.
Потом Федор Иваныч стал спокойнее, сосредоточеннее. Как будто мысль его работала над чем–то, открывшимся его духовному взору.
Все чаще и определеннее появлялась у него на лбу морщинка сосредоточенной на чем–то мысли, — быть может, мысли о жизни, о предстоящей смерти, о конечном смысле всего его пребывания на земле, — кто знает, о чем он думал.
Но мысль была. Это несомненно.
Для жены, хорошо его знавшей, это было самым плохим признаком.
А у него все–таки была надежда, что он останется жить. Теперь, перед лицом холодной, бессмысленной смерти ему болезненно, страстно захотелось жить. Не потому, чтобы у него оставалось что–нибудь свое, недостроенное в жизни, а просто т_а_к — жить!
Теперь скоро настанет весна, будут разбухать и лопаться смолистые почки тополей, начнутся свежие росистые утра с длинными тенями, с блеском солнца. Бывало, в юности хорошо было пораньше встать и бежать на реку, где искрящаяся на раннем солнце гладь воды, как бы еще не проснувшись под легким утренним туманом, манит своей бодрящей прохладой и свежестью.
Хорошо было с разбега броситься в эту свежую прохладу, переплыть, с силой вымахивая руками, на другой бок и походить по берегу, чувствуя холодную, свежую крепость тела и беспричинную радость при виде знакомых с детства картин: спускающихся к реке городских огородов, церквей и летающих над крышами голубей. Потом переплыть обратно, обтереться до красноты полотенцем и идти с полотенцем на плече по каменистой тропинке домой. Впереди целое свободное лето, а еще впереди — целая жизнь, из которой в этом состоянии утренней бодрости, кажется, можно сделать все, что угодно.
В тишине ночей, когда его мучила бессонница, он давал кому–то горячие клятвы и обещания все начать по–новому. Если бы эта жизнь, которую он прожил, была выдана ему начерно! Если бы еще получить беловую жизнь, во что бы он ее превратил! Каким стал!..
Вся орава процессов в эти дни что–то примолкла совсем, очевидно, смекнув, как бы их владыка не выкинул самой последней глупости, то есть не отправился бы в селения горния и не потащил бы их туда за собой.
К удивлению всех домашних, а в особенности доктора, не знавшего случаев, чтобы выживали после таких припадков, Федор Иваныч стал выздоравливать.
Он–то сам, конечно, относил это не к докторской помощи, а к тому, что господь услышал его горячие молитвы и дает ему отсрочку.
Выздоровление было заметно по многим признакам: он перестал молиться через каждые пять минут, а молился только когда установлено — перед сном, перед едой и после еды.
Та подозрительная работа мысли, которая была у него заметна в последнее время, к утешению домашних, стала исчезать, не оставив даже заметных следов на его лбу.
Старушки из пасомых приходили проведать своего пастыря и, умиляясь, рассказывали потом всем, что он, как ангел, лежит.
— Уж как хорошо выболел–то! — говорили они. — Худенький стал; ручки, как восковые. Сподобил господь!
А прежде сами же радовались, что он у них гладкий был.
Те обещания, те мысли о жизни, какие у него появились из неведомых глубин его личности в опасный период болезни, как–то постепенно забывались. Но это не было с его стороны лживой уловкой; обещал, отсрочку вымолил, а там — обещания побоку, и опять за свое. Дело с обещаниями сошло на нет, потому что оно было ненормальным явлением, только свидетельствовавшим о сильном потрясении и перемещении душевных элементов. Благодаря этому потрясению то, что было скрыто глубоко и лежало в нем без употребления в продолжение всей жизни, всплыло вдруг наверх, а что лежало наверху, зарылось на время вниз.
Через неделю Федор Иваныч в первый раз после долгого перерыва сел к своему окну и лицом к лицу встретился с Васькой, который неслушающимися глазами водил по окнам.
— Ну ты, что же, приятель, все по–старому! — сказал Федор Иваныч.
— По–старому, — грустно сказал Васька, остановив взгляд на своем пастыре и тупо моргая глазами.
— Плохо! — сказал Федор Иваныч. — Пора бы начать по–новому. А то жизнь–то у тебя пройдет, и останется неизвестным, зачем ты собственно существовал. А ведь в твоем распоряжении, слава богу, — не один год. Есть время одуматься, на себя оглянуться. Хорош ты будешь, когда явишься вот в этаком виде, об одной штанине к престолу господню. "Что это, — скажет господь бог, — за образина такая, откуда вы его выкопали? Дайте–ка посмотреть, что он в своей жизни сделал, что после него на земле осталось?" Возьмут книгу записей, посмотрят, а там твоя страница и не начата, только вся водкой залита и перепачкана. Ну, иди, безнадёжное создание!
Для заполнения времени Федор Иваныч купил новую книжку ребусов, кроме того, разрешил себе в виде закуски свежих карасиков, которые кушал, сидя у окна, чтобы не томиться бездействием и в то же время не подорвать здоровья, так как эта пища была совершенно безвредна.
Настала весна, разбухали и лопались смолистые почки тополей, начались свежие росистые утра с длинными тенями. И Федор Иваныч, вставая теперь на целый час раньше, чем обыкновенно, взяв карасиков, садился с самого утра к окну и в этой бодрой утренней прохладе начинал свой день.
Под окном опять стали толочься свиньи, подбирая бросаемые о. Федором головки карасей, и жевали: они внизу, он — наверху.
— Алексей Петров, куда забельшил доверенность? Вчера вечером тут была?
— Да я не знаю.
— Ты брось это свое "не знаю". Тут тебе не деревня. Раз ты служишь у присяжного поверенного, значит, должен быть точен, аккуратен и все знать. Понял? Двенадцать лет, слава тебе господи, стукнуло малому, а он — не знаю да не знаю. Руку от носа убери! В гроб ты меня уложишь…