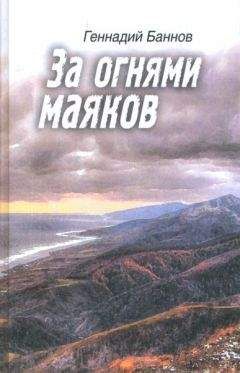Над берегами и морем властвовала тишина. Только гидроплан нарушал своим рокотом всеобщее оцепенение перед бурей.
— Вот так всегда перед норд-остами, — сказала Сметанина. — Нет никакой возможности передать это оцепенение красками. Очень, очень трудно.
Она вздохнула, подняла с земли осколок синей простой тарелки и спрятала его в карман пушистого жакета.
— Очень трудно, — повторила она после долгого молчания. — Я всегда работаю на открытом воздухе и устаю, как каменотес. С этим стариком, с Дымченко, я бьюсь уже третий день. Очень добрый старик, очаковец.
— Очаковский рыбак? — спросил Гарт.
— Нет. Он участвовал в восстании на крейсере «Очаков». Помните Шмидта?
— Ах да, да, конечно, — спохватился Гарт.
Сметанина внимательно посмотрела на него.
— Вот Шмидт! — сказала она. — Почему вы все так мало пишете о человеческом мужестве? Шмидт — фантазер, неудачник, но он человек громадного личного мужества. Дед Дымченко хорошо его знал. Он может рассказать вам о Шмидте много интересных вещей.
— К сожалению, я не умею разговаривать с людьми, — ответил смущенно Гарт.
— А вы пробовали?
Гарт промолчал. Он подумал, что за последние сутки и ему навязали три темы для размышлений — о предсказателях погоды, боре и лейтенанте Шмидте.
«Ну что ж, — сказал про себя Гарт и вздохнул. — Посмотрим».
В шлюпке Гарт молчал. Перевозчик греб стоя. Он лениво окунал весла в тихую воду.
Вечер медленно переходил в ночь. Она подымалась с востока сизым туманом.
Огни над водой горели по-разному. На востоке они сверкали напряженно и остро. На западе они переливались в оранжевой воде серыми столбами, почти не давали света и казались зажженными только для украшения этих замедленных сумерек.
Прощаясь с Гартом на пристани, Сметанина пригласила его к себе. Ей было жаль Гарта. Безошибочным женским чутьем она поняла одиночество этого человека.
Юнге не было дома. Гарт долго ходил по комнате. За открытым окном окуналась в море Большая Медведица.
Прожитый день был громаден, утомителен. Гарт долго сидел за столом, но написал всего две-три строчки. Он начал рассказ о человеческом мужестве. Тема эта была для него еще очень туманна.
В полночь над городом прокатился тяжелый гул. Раскатистые удары, похожие на пушечный гром, с размаху били по железным крышам. Свистели ветки акаций. Начинался норд-ост.
Последний раз я был в Севастополе зимой 1921 года.
Мы пришли из Одессы на единственном уцелевшем после белых пароходе «Димитрий». Пять дней «Димитрий» штормовал между Одессой и Тарханкутом. Дул ледяной норд-ост.
Два дня мы отстаивались в бухте Караджи, около бесплодных, покрытых сухим снегом, берегов Северного Крыма.
«Димитрий» был расшатанный, больной пароход. Котлы его выпускали на воздух половину пара. Пар шипел изо всех щелей. С стороны «Димитрий» был похож на плавучую китайскую прачечную.
Через несколько часов после выхода из Одессы мы попали в полосу полного шторма. Он доходил до одиннадцати баллов.
Океанские волны обрушивались на ветхие палубы, смывали груз и шлюпки, ломали планширы. Море — седое, зимнее, невыразимо угрюмое — ревело и неслось за тонкими бортами, как Ниагара.
Ветер сбивал с ног, отрывал пуговицы на пальто. В каютах стояла вода. Она сливалась сюда с палубы. В ней плавали окурки и чемоданы. Женщины плакали, мужчины помалкивали и дрожали.
На второй день сдала машина: «Димитрий» потерял ход. Нас начало сносить к берегам Румынии, где немцы во время войны поставили «букеты» мин.
Так предполагал капитан, но сказать точно он ничего не мог. Не было возможности определить местонахождение парохода. Море походило на кипящий котел, покрытый холодным паром. Этот пар — моряки зовут его «испарениями» — был хуже тумана. Не было ни звезд, ни солнца, нельзя было взять пробу грунта.
На третий день в носу парохода открылась течь. Начался мороз. Пароход обрастал льдом. Помпы едва выкачивали воду.
Матросы и пассажиры рубили лед топорами, кололи его ломами, срывая ногти, отмораживая руки.
«Димитрий» дал SOS. Но на призыв о помощи никто не ответил.
Среди пассажиров был оборванный, небритый матрос. Он единственный вел себя как на суше: спал, пел, ссорился с полумертвыми от страха мешочниками и внушал им правила никому сейчас не нужной корабельной дисциплины. Он один выходил «гулять» на палубу, но долго там не выдерживал. Спускаясь вниз, он говорил пассажирам:
— Чем киснуть здесь, вы бы пошли посмотрели, что делается! Красота!
Пассажиры в ответ только стонали.
Я последовал совету матроса и до сих пор благодарен ему за это. Впервые в жизни я испытал красоту и смертельное отчаяние небывалого шторма.
На пятые сутки среди ночи заревел охрипший гудок. Над головой побежали матросы, топая сапогами. На баке ударили в колокол. Его звон был не громче тявканья щенка. Шторм заглушал все звуки своим неутомимым голосом.
Я поднялся на палубу.
— Что случилось? — крикнул я пробегавшим матросам.
— Берег! — прокричали они и показали в темноту бури. Гам тускло мигал огонь маяка. До него казалось далеко, как до звезды. Это открылся Тарханкут.
Утром мы отдали якоря в бухте Караджи. Три дня «Димитрий» мотался на волнах около берегов, таких пустынных и печальных, что даже зрелище свинцового бушующего моря казалось веселым и праздничным.
Начался голод. Капитан вскрыл трюмы, но нашел там только прелую ячневую крупу. Ее роздали пассажирам. Мы варили жидкую кашу без соли на остатках пресной воды из цистерн. Вода была с мелким песком.
Мы ели кашу без хлеба. В голове с утра до вечера что-то гудело, как в телеграфных столбах.
Десять пассажиров-матросов в оглушительно хлопающих клешах — тогда таких матросов звали «Жоржиками» — решительно пошли к капитану. Они спросили его, поигрывая маузерами, почему он стоит и не хочет ли он, гад, чтобы все пассажиры посдыхали от голода.
Капитан — унылый и тощий старик — ответил им, что это не их, пассажирское, дело.
— А с голоду дохнуть — наше дело? — закричали матросы, и на пароходе начался традиционный бунт.
До тех пор я был уверен, что такие бунты отошли в область преданий с исчезновением парусного флота. Я думал так, пока не услыхал яростные крики матросов: «В море капитана! У нас найдутся свои капитаны!»
Капитан со скучающим лицом вытащил из кармана вместо традиционного револьвера измятую бумажку и показал ее матросам. Бумажка называлась «Предупреждение мореплавателям». В ней было написано, что вокруг Севастополя тянутся минные поля. Идти по ним в такой шторм — по меньшей мере безумие.
— Брехня! — кричали матросы. — Другие капитаны по минам идут напролом. Лучше мина, чем дохнуть без воды и без хлеба.
Капитан упирался. Матросы схватили его за ветхие рукава шинели, но тут — точь-в-точь как в старинных романах — пришло избавление. Оно появилось в лице рыжего комиссара Николаевского порта. Он оттолкнул матросов и сказал негромко:
— А ну, матросики, дай я с ним поговорю по-своему!
Он ушел с капитаном в штурманскую рубку и вернулся через две минуты.
— Успеете, — сказал он матросам. — Успеете выкинуть его в море. Пусть старик еще покрутится малость. Пошли в трюм выбирать своего капитана!
Комиссар оказался находчивым человеком. Он заманил матросов в трюм. Капитан, условившийся с комиссаром об этой военной хитрости, приказал закрыть трюм. Приказ был выполнен с непостижимой быстротой. Трюм не только закрыли дубовыми досками, но еще завалили сверху тяжелым грузом.
Матросы внизу бушевали до поздней ночи. Глухой рев десяти охрипших человеческих глоток доносился даже на палубу.
Ночью шторм стих. Мы снялись в Севастополь. Кроткий грек, пекарь из Феодосии, со странной фамилией Грамматика, измученный бедствиями бури, расстелил на крыше трюма одеяло и лег спать.
Через пять минут в трюме забухали выстрелы. Грамматика с плачем промчался по палубе в каюту врача. Ему прострелили ладонь. Матросы стреляли вверх, требуя освобождения.
Оборванный, небритый матрос, прислушиваясь к частой пальбе, крутил головой и удивлялся:
— Ну и здорово шуруют, духи!
Утром «Димитрий» подошел к Севастополю. Мы стояли на палубе небритые, окоченевшие и желтые от ячневой каши.
В синем дыму и жарком солнце разворачивались знаменитые севастопольские бухты. Росли над водой портики домов, разрушенные ограды, бронзовые памятники адмиралам и ржавые мачты затопленных кораблей.
«Димитрий» сигналами вызвал вооруженный караул. Десять краснофлотцев с черными винтовками поднялись на палубу «Димитрия», открыли трюм и арестовали бунтовщиков. Бунтовщики разыгрывали простецких и глуповатых парней, — они никак не могли понять, что с ними стряслось.