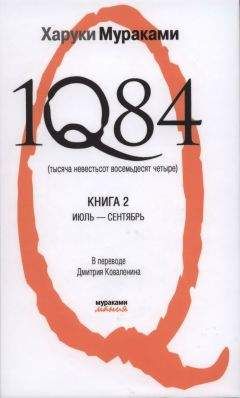— Откуда шёл эшелон? [35]
— Из Семидола.
— Как же вы отстали?
— Я покупал для товарищей картофель. Начальник эшелона сказал, что мы простоим часов восемь. Я ходил в деревушку в двух-трех километрах. Поезд отвели тем временем на какую-то ветку. За всей этой русской суматохой, пока я узнавал...
— Где это было?
— В Рязани. Я прошел добрых полпути пешком, до Москвы.
— Вас зовут?..
— Конрад Штейн. Поводив пальцем по спискам, человек, сидевший за столом, закурил папироску и сказал:
— Да, есть. Это было в конце октября?
— Эшелон погрузился в Семидоле двадцать четвертого октября и отправился двадцать пятого.
— Одна минутка, — произнес проверявший списки, поднялся и вышел в соседнюю комнату.
Пожилой бородатый солдат в русском башлыке вокруг шеи ласково вгляделся в Конрада Штейна и, показав глазами на его шрам, сказал:
— Хорошо сделано. Осколок?
— Французская работа, — отозвался Штейн, — в Шампани, в пятнадцатом году.
— Хорошо сделано, — повторил солдат. — Вы саксонец?
— Да.
Дверь соседней комнаты открылась, и человек со списками в руках выкрикнул:
— Конрад Штейн, зайдите сюда.
Когда Штейн поравнялся с ним, он добавил:
— Доложите секретарю, что вы мне говорили.
И стал в дверях.
Секретарь мельком взглянул на него и сказал: [36]
— Вы можете идти, товарищ.
Потом сухо обратился к Штейну:
— В каком лагере вы содержались?
— В Томском.
— До какого времени?
— Вот мои документы, в них все подробности. Потрудитесь...
— Прошу вас отвечать на вопросы. Мы в чужой стране, которая еще недавно находилась в войне с нами, и наш долг помогать друг другу. Каждый рвется домой, но не у всех одни права на первую очередь.
— Но ведь я уже был включен в эшелон!
— Я знаю. Когда вы были взяты в плен?
— Я тяжело болен, вы видите. — Штейн показал на свой шрам.
— Когда вы были взяты в плен?
— В феврале семнадцатого года.
— Где?
— Под Ригой.
— До какого времени вы содержались в Томске?
— Точно не припомню. Весной этого года. У меня, видите? — Штейн снова показал на голову.
— Однако вы точно сказали, когда отправились из Семидола.
— Это записано в документах.
— Каким образом вы очутились в Семидоле?
— Шесть человек бежали из Томска, в числе их — я.
— Как вы проникли через фронт?
— Красные приняли нас хорошо и помогли добраться до Семидола.
— А белые? [37]
— В гражданской войне вы не участвовали?
— Нет.
— Вы рядовой?
— Я ефрейтор.
Секретарь встал и направился к дальней двери. Дойдя до нее, он быстро обернулся и спросил:
— А вы не знавали некоего цур Мюлен-Шенау?
Ефрейтор сморщил брови, поднял глаза к потолку, помычал.
— Нет, не припомню, — спокойно ответил он.
— Как вас зовут?
— Конрад Штейн, — сказал ефрейтор.
Секретарь вышел.
Тогда Конрад Штейн бросился к двери, через которую перед тем вошел, остановился на одно мгновенье, затаил дыханье, прислушиваясь, потом неторопливо нажал дверную ручку.
В комнате, где толпились оборванные люди, у стола никого не было. Из телефонной будки доносился чей-то раздраженный тонкий крик.
Конрад Штейн положил на дно шапки свои документы, нахлобучил заячий мех на глаза и стал пробираться к выходу. Бородатому солдату в башлыке вокруг шеи, ласково взглянувшему на него, он скучно сказал:
— Пойду покурю, пока там возятся с бумагами. И тихо спустился по лестнице. На улице он скользнул за угол, бросился к трамвайной остановке и затерялся в невзрачной толпе.
А ночью к товарному поезду, тащившемуся из Москвы в Клин, подбежал из темноты быстрый человек с большой белой головой и, пропустив мимо себя звякавший сцепами, поскрипывающий состав, прилип к затылку последнего вагона у буфера, под слепым глазком красного фонаря. [38]
Штаб был освещен, и по замызганным, обшарканным лестницам бродили, бегали, метались люди. Через распахнутую дверь рвались телефонные звонки и охриплый, замученный голос клекотал поминутно:
— Слушаю... для поручений...
— Говорит, для поручений... у телефона для по-ру-че-ний!
В круглой высокой комнате плавал в табачном дыму и в бумажных ворохах сонный человек. Мусоля пальцы, он перебирал и перекладывал картонные карточки, бумажки, бумаги, подносил к губам эмалированный чайник, сосал оббитый носик, потом долго таращил глаза — с растолстевшими веками и обескрашенными зрачками — и опять перекладывал бумажки.
— Вам когда сказано явиться? — спросил он Старцова, не отрываясь от бумажек.
— В девять.
— А сейчас сколько?
Он весь обвис — усы полезли в рот, щеки сползли на нижнюю челюсть, длинные волосы занавесили лоб, глаза, уши, — но неустанны были руки, перебиравшие карточки, бумажки, бумаги.
— Постойте, — крикнул он уходившему Старцову, — есть! Это на Французской набережной.
Старцов взял бумагу, сунул ее за обшлаг и — мимо бродивших, бегавших, метавшихся людей, сквозь разнотонный треск звонков и клекотавший хрип: «для по-ру-че-ний!» — вышел на площадь.
Над дворцом струилась неровная белизна рассвета, но сам он, Александровский сад, разогнутая подкова штаба все еще стояли сплошной серой сте- [39] ной, обрубая скрещенные лапы автомобильных прожекторов.
Андрей окунулся в туман. Он шагал широко и уверенно, подбодряемый холодным ветром, заползавшим под воротник и в рукава.
Он торопился навстречу делу и верил, что все в мире станет простым и ясным, если он прикоснется к нему. Ему казалось, что чувство, поднявшее его над землей, как ветер клок бумаги, хоронится где-то совсем близко и вот-вот ворвется в него, чтобы опять закружить в своей воронке. Откуда мог он знать, что его попутный ветер дует с берега, к которому он старался причалить? Откуда мог знать, что с того часа, как он переступит порог ослепшего от дождей дома, каждый его день ляжет горою между ним и его простой, ощутимой целью?
Он открыл отсыревшую дверь и поднялся по лестнице с пропитанной грязью ковровой дорожкой.
В большом зале горела бессильная электрическая лампочка. Рыжий свет ее падал на длинный ряд ломберных столиков, выстроившихся вдоль окон.
— Са-ла-ват! — донеслось до Андрея жесткое гортанное слово.
Он обернулся. В углу, на крышке концертного рояля, лежал человек лицом вверх, с телефонной трубкой у рта.
— Салават! Салават! — кричал он так, что у него вздрагивал живот и дергались ноги.
Андрей посмотрел в дальний угол зала. Ему показалось, что там никого не было. Но в бледном, пробивавшемся через окно свете он вдруг различил силуэт солдата. Штык торчал над его головой прямой, четкой линейкой. Солдат стоял подле бесформенной черной кучи, выраставшей из пола. [40]
Андрей подошел ближе. На высоком приступке с ниспадавшими складками материй, обложенный венками, стоял гроб. Солдат, державший караул, крепко спал.
— Выпускающий «Салавата»? — вскричал человек на рояле и тут же жарко заторкал в трубку жесткими, невнятными словами. Потом соскочил с рояля и произнес, уже обращаясь к Андрею:
— Вот, сволочи, до сих пор не спустили в машину!
— Что?
— Да «Салават»! Газету, черти! А вам что
надо?
— Не знаю, туда ли я попал. Мне нужен начальник...
— Начальник? Вон туда. И короткий палец показал Андрею в дальний
угол, на гроб.
— Он умер? — спросил Андрей.
— Да нет же, это совсем другой! Там вон, дверь. Красный, бегавший по стенам свет прыгнул Андрею на грудь, колыхнулся по лицу и соскользнул на пол. У камина, на просторном ковре, поджав под себя ноги, сидели трое. Скуластый черный человек с маслеными прямыми прилизанными волосами круто дернулся головой к Андрею и спросил с качким восточным акцентом:
— Что надо, товарищ?
Андрей подошел ближе и протянул свои бумаги.
— Хорошо, нам надо такой работник, — сказал черный и кольнул Андрея меткими глазами.
Двое других мельком покосились на Андрея и замурлыкали монотонную песенку, громко вздохнув.
— Хочешь подождать — можешь подождать в другой комнате. [41]
— Вы назначите меня в часть? — спросил Андрей.
— Зачем в часть, почему в часть, если я говорю, что нам надо такой работник?
— Но я выражаю желание идти на фронт, а не оставаться здесь.
— Товарищ дорогой, я тоже выражаю желание, чтобы ты остался здесь. Здесь тоже фронт, а не что другое.
— Я хочу в передовые части, товарищ, меня за этим и послали.
— Какой разговорчивый, какой разговорчивый, дорогой! — воскликнул черный и показал Андрею довольный, блестящий оскал. — Так вот я сообщаю, что здесь передовая часть, сейчас может стать передовая часть в самом Петрограде. Оружие есть?