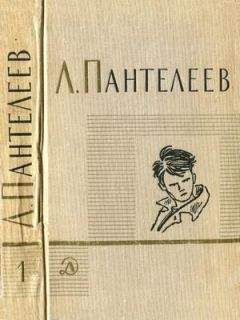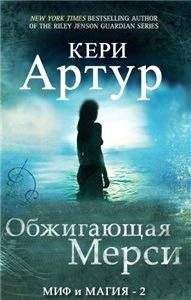– В милицию его!
– В участок!
– В комендатуру!
– Пожалуйста, пожалуйста. Очень хогошо. Идемте в милицию, – обрадовался Ленька. – Что же вы? Пожалуйста, пойдемте. Там выяснят, вог я или не вог.
Ничего другого ему не оставалось делать. По горькому опыту он знал, что как бы ни было худо в милиции, а все-таки там лучше, надежнее, чем в руках разъяренной толпы.
– Ты лучше сообщника своего укажи, – сказала какая-то женщина. – Тогда мы тебя отпустим.
– Еще чего! – усмехнулся Ленька. – Сообщника! Идемте, ладно…
И хотя за шиворот его все еще держала толстая баба, он первый шагнул по направлению к воротам.
В милицию его вела толпа человек в десять.
Ленька шел спокойно, лицо не выдавало его, – на его лице с рождения застыла хмурая мина, а кроме того, в свои четырнадцать лет он пережил столько разных разностей, что особенно волноваться и беспокоиться не видел причин.
«Ладно. Плевать. Как-нибудь выкручусь», – подумал он и, посвистывая, небрежно сунул руки в карманы рваной шубейки.
В кармане он нащупал что-то твердое.
«Нож», – вспомнил он.
Это был длинный и тонкий, как стилет, колбасный нож, которым они с Волковым пользовались вместо отвертки, когда приходилось свинчивать люстры и колпаки на парадных лестницах богатых домов.
«Надо сплавить», – подумал Ленька и стал осторожно вспарывать подкладку кармана, потом просунул нож в образовавшуюся дырку и отпустил его. Нож бесшумно упал в густой снег. Ленька облегченно вздохнул, но тотчас же понял, что влип окончательно. Кто-то из провожатых проговорил за Ленькиной спиной:
– Прекрасно. Ножичек.
Все остановились.
– Что такое? – спросила хозяйка замка.
– Ножичек, – повторил тот же человек, подняв, как трофей, колбасный нож. – Видали? Ножик выбросил, подлец! Улика!.. На убийство небось шли, гады…
– Батюшки! Бандит! – взвизгнула какая-то худощавая баба.
Все зашагали быстрее. Сознание, что они ведут не случайного воришку, а вооруженного бандита, прибавило этим людям гордости. Они шли теперь, самодовольно улыбаясь и поглядывая на редких прохожих, которые, в свою очередь, останавливались на тротуарах и смотрели вслед процессии.
В милиции за деревянным барьером сидел человек в красноармейской гимнастерке с кантами. Над головой его горела лампочка в зеленом железном колпаке. Перед барьером стоял милиционер в буденновском шлеме с красным щитом-кокардой и девочка в валенках. Между милиционером и девочкой стояла на полу корзина с подсолнухами. Девочка плакала, а милиционер размахивал своим красным милицейским жезлом и говорил:
– Умучился, товарищ начальник. Ее гонишь, а она опять. Ее гонишь, а она опять. Сегодня, вы не поверите, восемь раз с тротуара сгонял. Совести же у них нет, у частных капиталистов…
Он безнадежно махнул жезлом. Начальник усталым и неприветливым взглядом посмотрел на девочку.
– Патент есть? – спросил он.
Девочка еще громче заплакала и завыла:
– Не-е… я не буду, дяденька… Ей-богу, не буду…
– Отец жив?
– Уби-или…
– Мать работает?
– Без работы… Четвертый ме-есяц…
Начальник подумал, потер ладонью лоб.
– Ну иди, что ж, – сказал он невесело. – Иди, частный капиталист.
Девочка, как по команде, перестала плакать, встрепенулась, схватила корзинку и побежала к дверям.
Один из Ленькиных провожатых подошел к барьеру.
– Я извиняюсь, гражданин начальник. Можно?
– В чем дело?
– Убийцу поймали.
Начальник, сощурив глаза, посмотрел на Леньку.
– Это ты – убийца?
– Выдумают тоже, – усмехнулся Ленька.
Однако составили протокол. Пять человек подписались под ним. Оставили вещественное доказательство – нож, потолкались немножко и ушли.
Леньку провели за барьер.
– Ну, сознавайся, малый, – сказал начальник. – С кем был, говори!
– Эх, товарищ!.. – вздохнул Ленька и сел на стул.
– Встань, – нахмурился начальник. – И не думай отпираться. Не выйдет. С кем был? Что делал на лестнице? И зачем нож выбросил?
– Не выбросил, а сам выпал нож, – грубо ответил Ленька. – И чего вы, в самом деле, мучаете невинного человека? За это в суд можно.
– Я тебе дам суд! Обыскать его! – крикнул начальник.
Два милиционера обыскали Леньку. Нашли не особенно чистый носовой платок, кусок мела, гребешок и ключ.
– А это зачем у тебя? – спросил начальник, указав на ключ.
Ленька и сам не знал, зачем у него ключ, не знал даже, как попал ключ к нему в карман.
– Я отвечать вам все равно не буду, – сказал он.
– Не будешь? Правда? Ну, что ж. Подождем. Не к спеху… Чистяков, – повернулся начальник к милиционеру, – в камеру!..
Милиционер с жезлом взял Леньку за плечо и повел куда-то по темному коридору. В конце коридора он остановился и, открыв ключом небольшую, обитую железом дверь, толкнул в нее Леньку, потом закрыл дверь на ключ и ушел. Его шаги гулко отзвенели и смолкли.
И тут, когда Ленька остался один в темной камере и увидел на окне знакомый ему несложный узор тюремной решетки, а за нею – угасающий зимний закат, вся его напускная бодрость исчезла. Он сел на деревянную лавку и опустил голову.
«Теперь уж не отвертеться, – подумал он. – Нет. Кончено. И в школе узнают… и мама узнает».
В камере было тихо, только мышь возилась где-то в углу под нетопленой печкой. Мальчик еще ниже опустил голову и заплакал. Плакал долго, потом прилег на лавку, закутался с головой в шубейку, решил заснуть.
«А все-таки не сознаюсь, – думал он. – Пусть что хотят делают, пусть хоть пытают, а не сознаюсь».
Лавка была жесткая, шубейка выношенная, тонкая. Переворачиваясь на другой бок, Ленька подумал:
«А хорошо все-таки, что это я попался, а не Вовка. Тот, если бы влип, так сразу бы все рассказал. Твердости у него нет, даром что опытный…»
Потом ему стало обидно, что Волков убежал, бросил его, а он вот лежит здесь, в темной, нетопленой камере. Волков небось вернулся домой, поел, попил чаю, лежит с ногами на кровати и читает какого-нибудь Эдгара По или Генрика Сенкевича. А дома у Леньки уже тревожатся. Мать вернулась с работы, поставила чай, сидит, штопает чулок, посматривает поминутно на часы и вздыхает:
– Что-то Лешенька опять не идет! Не случилось ли чего, избави боже…
Леньке стало жаль мать. Ему опять захотелось плакать. И так как от слез ему становилось легче, он старался плакать подольше. Он вспоминал все, что было в его жизни самого страшного и самого горького, а заодно вспоминал и хорошее, что было и что уже не вернется, и о чем тоже плакалось, но плакалось хорошо, тепло и без горечи.
…Еще не было электричества. Правда, на улицах, в магазинах и в шикарных квартирах уже сверкали по вечерам белые грушевидные «экономические» лампочки, но там, где родился и подрастал Ленька, долго, почти до самой империалистической войны, висели под потолками старинные керосиновые лампы. Эти лампы были какие-то неуклюжие и тяжелые, они поднимались и опускались на блоках при помощи больших чугунных шаров, наполненных дробью. Однажды все лампы в квартире вдруг перестали опускаться и подниматься… В чугунных шарах оказались дырочки, через которые вся дробь перекочевала в карманы Ленькиных штанов. А без дроби шары болтались, как детские воздушные шарики. И тогда отец в первый и в последний раз выпорол Леньку. Он стегал его замшевыми подтяжками и с каждым взмахом руки все больше и больше свирепел.
– Будешь? – кричал он. – Будешь еще? Говори: будешь?
Слезы ручьями текли по Ленькиному лицу, – казалось, что они текут и из глаз, и из носа, и изо рта. Ленька вертелся вьюном, зажатый отцовскими коленями, он задыхался, он кричал:
– Папочка! Ой, папочка! Ой, миленький!
– Будешь?
– Буду! – отвечал Ленька.
– Будешь?
– Буду! – отвечал Ленька. – Ой, папочка! Миленький!.. Буду! Буду!..
В соседней комнате нянька отпаивала водой Ленькину маму, охала, крестилась и говорила, что «в Лешеньке бес сидит, не иначе». Но ведь эта же самая нянька уверяла, что и в отце сидит «бес». И значит, столкнулись два беса – в этот раз, когда отец порол Леньку. И все-таки Ленькин бес переборол. Убедившись в упорстве и упрямстве сына, отец никогда больше не трогал его ремнем. Он часто порол младшего сына, Васю, даже постегивал иногда «обезьянку» Лялю, – всем доставалось, рука у отца была тяжелая и нрав – тоже нелегкий. Но Леньку он больше не трогал.
…Он делал иначе. За ужином, зимним вечером, детям дают холодный молочный суп. Это противный суп, он не лезет в глотку. (Даже сейчас не может Ленька вспомнить о нем без отвращения.)
У Васи и Ляли аппетит лучше. Они кое-как одолели свои тарелки, а у Леньки тарелка – почти до краев.
Отец отрывается от газеты.