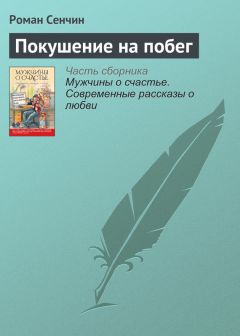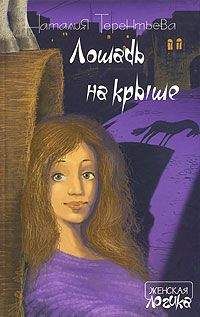Директор слушал, кивал большой гладкой головой – соглашался. Смотрел на Аксенова доверчиво.
Его звали – Васёка. Васёка имел двадцать четыре года от роду, один восемьдесят пять рост, большой утиный нос… и невозможный характер. Он был очень странный парень – Васёка.
Кем он только не работал после армии! Пастухом, плотником, прицепщиком, кочегаром на кирпичном заводе. Одно время сопровождал туристов по окрестным горам. Нигде не нравилось. Поработав месяц-другой на новом месте, Васёка приходил в контору и брал расчет.
– Непонятный ты все-таки человек, Васёка. Почему ты так живешь? – интересовались в конторе.
Васёка, глядя куда-то выше конторщиков, пояснял кратко:
– Потому что я талантливый.
Конторщики, люди вежливые, отворачивались, пряча улыбки. А Васёка, небрежно сунув деньги в карман (он презирал деньги), уходил. И шагал по переулку с независимым видом.
– Опять? – спрашивали его.
– Что «опять»?
– Уволился?
– Так точно! – Васёка козырял по-военному. – Еще вопросы будут?
– Куклы пошел делать? Хэх…
На эту тему – о куклах – Васёка ни с кем не разговаривал.
Дома Васёка отдавал деньги матери и говорил:
– Все.
– Господи!.. Ну что мне с тобой делать, верста коломенская? Журавь ты такой! А?
Васёка пожимал плечами: он сам пока не знал, что теперь делать – куда пойти еще работать.
Проходила неделя-другая, и дело отыскивалось.
– Поедешь на бухгалтера учиться?
– Можно.
– Только… это очень серьезно!
– К чему эти возгласы?
«Дебет… Кредит… Приход… Расход… Заход… Обход… – И деньги! деньги! деньги!..»
Васёка продержался четыре дня. Потом встал и ушел прямо с урока.
– Смехота, – сказал он. Он решительно ничего не понял в блестящей науке хозяйственного учета.
Последнее время Васёка работал молотобойцем.
И тут, помахав недели две тяжелой кувалдой, Васёка аккуратно положил ее на верстак и заявил кузнецу:
– Все!
– Что?
– Пошел.
– Почему?
– Души нету в работе.
– Трепло, – сказал кузнец. – Выйди отсюда.
Васёка с изумлением посмотрел на старика кузнеца.
– Почему ты сразу переходишь на личности?
– Балаболка, если не трепло. Что ты понимаешь в железе? «Души нету»… Даже злость берет.
– А что тут понимать-то? Этих подков я тебе без всякого понимания накую сколько хочешь.
– Может, попробуешь?
Васёка накалил кусок железа, довольно ловко выковал подкову, остудил в воде и подал старику.
– Прошу.
Кузнец легко, как свинцовую, смял ее в руках и выбросил из кузницы.
– Иди корову подкуй такой подковой.
Васёка взял подкову, сделанную стариком, попробовал тоже погнуть ее – не тут-то было.
– Что?
– Ничего.
Васёка остался в кузнице.
– Ты, Васёка, парень – ничего, но болтун, – сказал ему кузнец. – Чего ты, например, всем говоришь, что ты талантливый?
– Это верно: я очень талантливый.
– А где твоя работа сделанная?
– Я ее никому, конечно, не показываю.
– Почему?
– Они не понимают. Один Захарыч понимает.
– Принеси мне. Я гляну.
На другой день Васёка принес в кузницу какую-то штукенцию с кулак величиной, завернутую в тряпку.
– Вот.
Кузнец развернул тряпку… и положил на огромную ладонь человечка, вырезанного из дерева. Человечек сидел на бревне, опершись руками на колени. Голову опустил на руки; лица не видно. На спине человечка, под ситцевой рубахой – синей, с белыми горошинами – торчат острые лопатки. Худой, руки черные, волосы лохматые, с подпалинами. Рубаха тоже прожжена в нескольких местах. Шея тонкая и жилистая.
Кузнец долго разглядывал его.
– Смолокур, – сказал он.
– Ага. – Васёка глотнул пересохшим горлом.
– Таких нету теперь.
– Я знаю.
– А я помню таких. Это что он?.. Думает, что ли?
– Песню поет.
– Помню таких, – еще раз сказал кузнец. – А ты-то откуда их знаешь?
– Рассказывали.
Кузнец вернул Васёке смолокура.
– Похожий.
– Это что! – воскликнул Васёка, заворачивая смолокура в тряпку. – У меня разве такие есть!
– Все смолокуры?
– Почему?.. Есть солдат, артистка одна есть, тройка… еще солдат, раненый. А сейчас я Стеньку Разина вырезаю.
– А у кого ты учился?
– А сам… ни у кого.
– А откуда ты про людей знаешь? Про артистку, например…
– Я все про людей знаю. – Васёка гордо посмотрел сверху на старика. – Они все ужасно простые.
– Вон как! – воскликнул кузнец и засмеялся.
– Скоро Стеньку сделаю… поглядишь.
– Смеются над тобой люди.
– Это ничего. – Васёка высморкался в платок. – На самом деле они меня любят. И я их тоже люблю.
Кузнец опять рассмеялся.
– Ну и дурень ты, Васёка! Сам про себя говорит, что его любят! Кто же так делает?
– А что?
– Совестно небось так говорить.
– Почему совестно? Я же их тоже люблю. Я даже их больше люблю.
– А какую он песню поет? – без всякого перехода спросил кузнец.
– Смолокур-то? Про Ермака Тимофеевича.
– А артистку ты где видел?
– В кинофильме. – Васёка прихватил щипцами уголек из горна, прикурил. – Я женщин люблю. Красивых, конечно.
– А они тебя?
Васёка слегка покраснел.
– Тут я затрудняюсь тебе сказать.
– Хэ!.. – Кузнец стал к наковальне. – Чудной ты парень, Васёка! Но разговаривать с тобой интересно. Ты скажи мне: какая тебе польза, что ты смолокура этого вырезал? Это ж все-таки кукла.
Васёка ничего не сказал на это. Взял молот и тоже стал к наковальне.
– Не можешь ответить?
– Не хочу. Я нервничаю, когда так говорят, – ответил Васёка.
…С работы Васёка шагал всегда быстро. Размахивал руками – длинный, нескладный. Он совсем не уставал в кузнице. Шагал и в ногу – на манер марша – подпевал:
Пусть говорят, что я ведра починяю,
Эх, пусть говорят, что я дорого беру!
Две копейки – донышко,
Три копейки – бок…
– Здравствуй, Васёка! – приветствовали его.
– Здорово, – отвечал Васёка. И шел дальше.
Дома он наскоро ужинал, уходил в горницу и не выходил оттуда до утра: вырезал Стеньку Разина.
О Стеньке ему много рассказывал Вадим Захарович, учитель-пенсионер, живший по соседству. Захарыч, как его называл Васёка, был добрейшей души человек. Это он первый сказал, что Васёка талантливый. Он приходил к Васёке каждый вечер и рассказывал русскую историю. Захарыч был одинок, тосковал без работы. Последнее время начал попивать. Васёка глубоко уважал старика. До поздней ноченьки сиживал он на лавке, поджав под себя ноги, не шевелился – слушал про Стеньку.
– …Мужик он был крепкий, широкий в плечах, легкий на ногу… чуточку рябоватый. Одевался так же, как все казаки. Не любил он, знаешь, разную там парчу… и прочее. Это ж был человек! Как развернется, как глянет исподлобья – травы никли. А справедливый был!.. Раз попали они так, что жрать в войске нечего. Варили конину. Ну и конины не всем хватало. И увидел Стенька: один казак совсем уж отощал, сидит у костра, бедный, голову свесил: дошел окончательно. Стенька толкнул его – подает свой кусок мяса. «На, – говорит, – ешь». Тот видит, что атаман сам почернел от голода. «Ешь сам, батька. Тебе нужнее». – «Бери!» – «Нет». Тогда Стенька как выхватил саблю – она аж свистнула в воздухе: «В три господа душу мать!.. Я кому сказал: бери!» Казак съел мясо. А?.. Милый ты, милый человек… душа у тебя была.
Васёка, с повлажневшими глазами, слушал.
– А княжну-то он как! – тихонько, шепотом, восклицал он. – В Волгу взял и кинул…
– Княжну!.. – Захарыч, тщедушненький старичок с маленькой сухой головой, кричал: – Да он этих бояр толстопузых вот так покидывал! Он их как хотел делал! Понял? Сарынь на кичку! И все.
…Работа над Стенькой Разиным подвигалась туго. Васёка аж с лица осунулся. Не спал ночами. Когда «делалось», он часами не разгибался над верстаком – строгал и строгал… швыркал носом и приговаривал тихонько:
– Сарынь на кичку.
Спину ломило. В глазах начинало двоиться. Васёка бросал нож и прыгал по горнице на одной ноге и негромко смеялся.
А когда «не делалось», Васёка сидел неподвижно у раскрытого окна, закинув сцепленные руки за голову. Сидел час, два – смотрел на звезды и думал про Стеньку.
Приходил Захарыч, спрашивал:
– Василий Егорыч дома?
– Иди, Захарыч! – кричал Васёка. Накрывал работу тряпкой и встречал старика.
– Здоровеньки булы! – Так здоровался Захарыч – «по-казацки».
– Здорово, Захарыч.
Захарыч косился на верстак.
– Не кончил еще?
– Нет. Скоро уж.
– Показать можешь?
– Нет.
– Нет? Правильно. Ты, Василий… – Захарыч садился на стул, – ты – мастер. Большой мастер. Только не пей. Это гроб! Понял? Русский человек талант свой может не пожалеть. Где смолокур? Дай…
Васёка подавал смолокура и сам впивался ревнивыми глазами в свое произведение.
Захарыч, горько сморщившись, смотрел на деревянного человечка.
– Он не про Ермака поет, – говорил он. – Он про свою долю поет. Ты даже не знаешь таких песен. – И он неожиданно сильным красивым голосом запел: