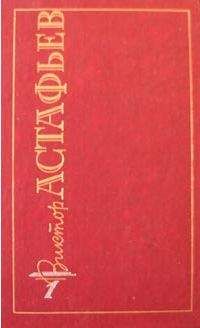— Айда, Сележа, к нам иглать во двол.
— Беги, беги, сынок, — подтолкнула Тася Сережу, — будь смелей. Видишь, какие ребята славные, они тебя не обидят. Минутку, ребята, одну минутку. Тася быстро открыла чемодан и сунула в руки Сереже пакет с конфетами. — На, угощай.
Ребята шумной ватагой выскользнули из дому, а Тася и Юрий некоторое время сидели молча.
— Учишься, Юрий?
— Да, нынче в седьмом.
— Отец погиб?
— Нет, он умер от ранения. Его уже в сорок пятом ранили, в Германии. И, как всегда бывает в таких случаях, они горестно помолчали на этом месте.
— Мама кем работает на ферме?
— Бригадиром. А вот и она, — радостно встрепенулся Юрий, услышав, как звякнула щеколда у ворот. — У нас мама хорошая, — как что-то сокровенное, тихо сообщил Юрий и смутился.
Дверь в избу осталась приоткрытой, и Тася услышала спокойный, немного усталый голос:
— А это чей же такой худышка? Агрономши-и, вон ка-ак! Славный мальчик. Ну, играйте, играйте, потом есть вас позову.
Тася почему-то оробела и вся подобралась, ожидая эту «популярную бабенку». Дверь открылась. Через порог ступила высокая, полногрудая, повязанная полушалком женщина. Она скользнула по Тасе большими, чуть подернутыми усталостью глазами и молча разделась. Затем медленно подошла к Тасе и подала руку.
— Лидия Николаевна, попросту — Макариха. Это моего мужа Макаром звали. — Рука у Лидии Николаевны была теплая, но жесткая, а рукопожатие порывистое и сильное.
Тася тихо назвала себя и робко прибавила:
— Новый агроном, к нам на постой, в ту половину, а она еще заколочена…
— Вот и хорошо, что сюда зашли. Я сегодня скажу Якову, чтобы он там окна уделал, двери, печь в порядок привел. Потом мы вместе все приберем, побелим и будем соседями.
Лидия Николаевна сказала это обыденным голосом, как давно намеченное и само собой разумеющееся, а затем с задумчивой улыбкой прибавила:
— Не робейте и не бойтесь ничего. Правление вас, наверное, напугало, да ведь правление это еще не колхоз. Ох, что это я? — спохватилась она. Соловья баснями не кормят. Давайте собирать на стол.
Она повязалась ситцевым платком, надела передник и сразу сделалась ближе и проще. Доставая из печки объемистый чугун с отбитым краем, усмехнулась:
— Ишь, дома-то у нас сегодня, как праздник, чисто, благодать. А то ведь у меня ребята смирные: придешь иной раз домой, даже русская печка на месте стоит.
Разговаривая так, Лидия Николаевна ловко орудовала ухватом.
Тася молча следила за ее сильными неторопливыми движениями.
— Юрий, ну-ка сбегай в погреб за огурчиками, — сказала Лидия Николаевна и с чисто женской горечью добавила: — Худо жить стали мы, и гостя по-доброму попотчевать нечем. Это уж из-за войны навалилась на нас нужда. Раньше нас рукой было не достать. Соседи мои, в той половине дома, не выдержали, в город сбежали, а семья работящая. И многие так-то. Живут сейчас в городе, тоску по родному углу в сердце носят. — Лидия Николаевна покачала головой и вытерла о передник руки. — Ну, ничего, будет лучше, добьемся. Расшевелило новое постановление людей и в городе, и в деревне. Вот новый специалист к нам прибыл помогать, — улыбнулась Лидия Николаевна, глядя на Тасю, и пригласила: — Подвигайся, Тасюшка, к столу, уж чем богаты.
— Да какой я гость?!
Лидия Николаевна молча посмотрела на нее и вышла во двор.
— Рсбята-а! — услышала ее голос Тася. — Есть ступайте! — Повернувшись, она рассмеялась: — Уже подружились, удочки снаряжают. Берегитесь, пескари!
На стол поставили вареную картошку, огурцы, капусту, свежий ржаной хлеб — и работа началась. Черноглазые ребятишки молотили так, что над столом только ложки мелькали да слышалось шмыганье носами. Сережа старался от ребят не отставать, обжигался горячей картошкой, и, когда она застревала у него в горле, Васюха молча и деловито колотил его по спине кулаком.
Лидия Николаевна поглядывала на них, неторопливо ела и, накладывая из чугуна картошку на тарелку, задумчиво говорила:
— В нашем доме не совсем уютно, но все же за Сережей догляд будет, да и нам, двоим бабам, повеселей.
Тася поглядела на эту статную женщину с кое-где подернутыми сединой волосами, на полное застолье ребятишек с вспотевшими носами и вдруг облегченно вздохнула. Напряжение с души свалилось. Она поняла, что у нес появился друг. Первый и, кажется, большой.
Окна, обращенные к реке, начали темнеть. По стеклам постукивали, как малые птенцы, капли дождя. На деревню спускался дождливый, осенний вечер. А в доме многолюдно и, может быть, оттого тепло.
В этот же непогожий вечер Николай Дементьевич сидел у себя дома и делал вид, что читает. Перед ним лежала раскрытая книга, и он временами, спохватившись, перелистывал страницу-друтую, по мысли его были далеко. В жизнь его, распахнув настежь дверь, ворвалось прошлое.
Все уже почти затушевалось: и вешний яркий День Победы, и наивная сероглазая девушка, и даже та записка в несколько слов с подленькими, хотя и честными, с точки зрения некоторых людей, словами. Николай Дементьевич всегда хотел, чтобы автором этой записки был не он, ну хотя бы в мыслях. Правда, сделать такое не удавалось. Гаденькое чувство настойчиво проникало в сердце, когда он думал о том, как бесцеремонно обманул молоденькую девушку, почти дитя, воспользовавшись ее доверчивостью. Однако время сделало свое дело. Прошлое вспоминалось реже и реже. И вот!
Таисья Голубева — агроном и та — юная, госпитальная сиделка… Что в них общего? Почти ничего. «А я-то думал, что от совести укрыться можно, усмехнулся Чудинов. — Грешок — как соль на губах. Сколько ни остерегайся, все равно в рот попадет. Но как же теперь жить?»
Чудинов еще давеча, при встрече с Тасей, понял, что она не сказала ему самого главного. Он сам догадывался об этом и боялся своей догадки. В тот момент, когда Тася была в красном уголке, Николай Дементьевич попал впросак. Он принял Сережу за своего младшего сынишку. Да и мудрено было не принять. Сходство разительное. Митя, правда, поплотнее и повыше, да глаза у него темные, а в остальном копия. Даже хохолок на крутом затылке у приезжего мальчика так же воинственно торчал, как у Мити.
После того как Тася с сыном отправилась в Корзиновку, Чудинов метался по кабинету так же быстро и поворачивался так же круто, как мысли в голове. Он вспомнил все до подробностей. Ведь она говорила ему тогда, в госпитале, но говорила как-то обиняками, сконфуженно, видимо, сама еще толком не знала, что с ней происходит. И как можно было предположить, что у такого милого, веселого создания может быть ребенок.
«Ах как подло все это! — тряс головой Чудинов. — Мимолетное приключение! Анекдотец военного времени! Ведь были же, были вояки, которые морализировали на эту тему потрясающе просто: „Рви от жизни все, что можно, все равно война!“» Осуждал в глубине души таких людей Чудинов и поступил точно так же, как они.
Когда на деревню вместе с дождем опустилась темнота, Чудинов устало подумал: «А ведь надо идти домой». И в первый раз за послевоенные годы ему не захотелось идти домой. Не то чтобы боязно, а просто очень уж неловко. Надо ведь смотреть в глаза жене, детишкам, что-то говорить, делать. «Ну а до сегодняшнего вечера ходил же домой, не стеснялся, мерзавец! Сколько людей обманывал, еще и еще надо обманывать, и конца этому не видно. Гадко, все гадко! Вот приду сейчас и все расскажу жене, все выложу, а там будь что будет!»
Это решение немножко ободрило его, и он, крепко шлепая сапогами по грязи, отправился домой.
Но как только он ступил на порог своего дома, решительность начала покидать его. Жена готовила на кухне ужин. Пахло тестом и жареным мясом. Очевидно, она стряпала его любимые беляши. Митя играл с сестренкой в пароход. Сестренка была на три года моложе Мити. Она сидела на опрокинутой вверх ножками скамье и отчаянно гудела. «Пароход» поехал прямо на Николая Дементьевича, и маленькая капитанша закричала:
— Папу палоход залежит!
Но отец не подхватил ее на руки, как всегда, не пощекотал под мягким подбородком, а молча разделся и прошел в переднюю комнату. Старший сын еще не пришел из школы.
Николай Дементьевич взял с полки книгу. И вот он сидит за ней часа три. Уж и дочка угомонилась, и Митя уснул, а оп все сидит и сидит. Старший сын выполнил уроки и свалился на диван с книгой. Николаи Дементьевич раздраженно буркнул:
— Экий барон, на диване с книжкой разлегся!
— А что?
— А то! — повысил голос Николай Дементьевич и уже тише закончил: Зрение от этого портится, вот что!
Сын поднялся с дивана, пожал плечами и, выходя из комнаты, хмыкнул:
— И чего тебе вдруг вздумалось о моем зрении беспокоиться?
Николай Дементьевич хотел остановить этого долговязого подростка, который чем старше становился, тем чаще распускал язык, но он лишь нахмурился и сына не остановил. Жена еще не спала и слышала эту короткую перебранку.