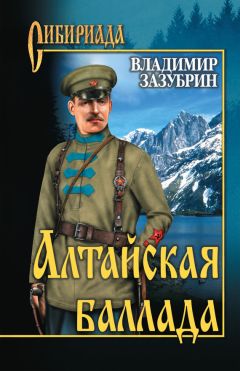– О-о-о-х!
Ни дня, ни ночи не было. Было только тяжело всем. Страдали все. Седой щерился на стеклах окон. На нарах люди.
– О-о-о-х!
Барановский спал долго. Встал, наверное, утром. Стекла замазались красным. Был, кажется, рассвет. Подошел к окну. Ноги дрожали. Ухватился за подоконник. Сестра положила руку на плечо. Взглянула в глаза ласково.
– Поправляемся?
Голос. Нет, не голос. Музыка. Ведь она родная. С ней хорошо.
– Сестрица, возьмите в конторе мои деньги и купите мне шоколаду. Не откажите, милая.
– На ваши деньги коробку спичек не купишь, их аннулировали.
Барановскому страшно немного.
– А как же я без денег-то? Куда я пойду? Да и с деньгами-то. Я боюсь. Совсем ведь другой мир. Я ничего не знаю в нем.
Женский голос успокаивает:
– Бояться нечего, устроитесь отлично. Будете служить в Красной Армии. Я тоже чужая у красных. Они у меня мужа расстреляли. А ничего, вот видите – служу. Замолчали. Смотрят в окно. Белая, седобородая, седоусая рожа покраснела. Обоим грустно. Отчего? Не знают. Но и хорошо.
Сестру позвал больной. Белые и красные зябли, жались друг к другу.
– О-о-о-х!
Между теплыми, еще живыми, лежали холодные, мертвые. Неподвижных, застывших выносили на носилках. На мороз. Живые боялись. Как бы их. По ошибке.
– Я живой, сестрица. Живой.
– Живой, живой. Скоро гулять пойдешь. Выпей бульона.
Рука теплая, как у матери. Гладит по голове. Святая. Молиться хочется на нее. Молов бредил. Он еще болен.
– Мы вас выметем красными метлами. Выметем. Метут. Метут.
Барановскому тяжело. Одиночество. И эта неизвестность. Что там? За стеклами. Ледяная штора закрывает это там. Там новое. Красное. Офицер, почти касаясь губами, задышал на мерзлоту. Медленно протаяла щелочка. Ослабевшим пальцем с длинным ногтем расцарапал шире. Прижался большим черным глазом с густыми ресницами. За окном, на дворе лазарета, бродили полудохлые одры, валялись сломанные сани. Остатки белых обозов. Одров кормить нечем. И некому. Они ели свои испражнения и дохли тут же на дворе. Издыхая, ржали. Там же ходили люди с красным на шапках, на рукавах, на груди. Красный флаг кричал на соседнем корпусе. Офицеру жутко. Красное с непривычки волнует. Но глаз не отрывает от щелки.
Недалеко, в другом городе, диктатор Сибири последний раз взглянул на черные дырки винтовок. Красный полог закрыл его навсегда. По всей стране красными топорами стучали залпы. Кровь за кровь. Кровь кровью. Железные метлы Чека и особых отделов мели, как сор, в свои подвалы. Беспомощных, обезоруженных карателей и палачей, вчерашних хозяев. Вчерашние рабы, униженные, растоптанные, иссеченные нагайками и шомполами, перепоротые розгами «поборниками человечности, справедливости и порядка», поднялись. Огнем лечили раны. Смывали, кровь кровью.
Послесловие
ЗАЧИНАТЕЛЬ СОВЕТСКОГО РОМАНА
Советская литература накопила немало художественных ценностей. К ним относятся и «Два мира» – первый советский роман, написанный сибирским писателем Владимиром Яковлевичем Зазубриным.
Книга Владимира Зазубрина вышла в свет в 1921 году. Она была издана в Иркутске к четвертой годовщине Октябрьской революции в походной военной типографии Политуправлением 5-й Армии и Восточно-сибирским военным округом, или, как тогда говорили, Пуармом 5 и ВСВО. «Два мира» явились по существу одним из первых в советской литературе художественных произведений о гражданской войне, написанных по неостывшим следам только что отгремевших событий. В литературе тогда не было ни «Разгрома», ни «Чапаева», ни «Железного потока», ни «Тихого Дона». Тема революции и гражданской войны лишь начинала завоевывать права гражданства и почти целиком исчерпывалась поэмой А. Блока «Двенадцать», рассказами и повестями Вс. Иванова «Партизаны», И. Касаткина «Лесные братья», П. Низового «Крыло птицы».
Талантливая и беспощадно правдивая книга В. Зазубрина сразу же привлекла к себе всеобщее внимание. Старейшин советский писатель Борис Лавренев вспоминает: «Я помню, с каким волнением и радостью мы, молодые, не имеющие еще опыта искатели, встречали в те дни первые цветы нашей литературы. Помню, как в Политуправлении Туркфронта в 1921 году был до дыр зачитан всеми работниками первый (кстати, незаслуженно забытый) советский роман В. Зазубрина «Два мира».[29]
В одном из первых печатных откликов роман справедливо был признан «живой панорамой классовой смертельной схватки», первой попыткой «использования агитационной мощи художественной литературы». Отмечая у автора «незаурядный талант художника», рецензент далее указывал, что, несмотря на отдельные недостатки – импрессионизм письма, элементы натурализма, плакатность и пр., – Зазубрину удалось создать «хорошую и нужную книгу», нарисовать «широкую, в общем правдивую, порой захватывающую картину из великой борьбы двух миров в Сибири, создать живые памятники этой борьбы».[30]
Глубокое сочувствие и живой отклик нашел роман в красноармейской среде. Солдаты, командиры и политработники Красной Армии были первыми читателями книги В. Зазубрина. «Два мира» зачитывались до дыр, вызвали десятки инсценировок на красноармейских и рабочих сценах. Печатный орган Политуправления Краской Армии журнал «Политработник», No 2 за 1922 год посвятил первому роману о борьбе с колчаковщиной восторженную статью, назвав книгу «яркой картиной колчаковского режима и борьбы с ним партизан», картиной, написанной «молодым, но сильным талантом». «Политработник» писал: «Книгу надо читать всем. Ее надо прочитать каждому красноармейцу, каждому рабочему и крестьянину. Ее надо перевести на все языки и как клеймящий документ бросить буржуазии, смеющей твердить о культуре и гуманности».[31] Не менее высокую оценку встретила книга сразу же после своего появления в печати и у А. В. Луначарского. Последний буквально через несколько месяцев после ее выхода в свет обратился к автору со специальным письмом, в котором он писал об «огромном удовольствии», доставленном ему чтением романа. А. В. Луначарский с присущей ему энергией сразу же решил написать на «Два мира» рецензию для журнала «Печать и революция», он же предложил редактору «Красной нови» А. Воронскому перепечатать роман в ближайших номерах журнала и одновременно ознакомил с ним В. И. Ленина. «Я, – писал А. В. Луначарский, – сообщил роман, как очень любопытную эпопею, В. И. Ленину, который его прочитал, но мнения его пока не знаю; когда узнаю – напишу Вам».
С точки зрения самого Луначарского, «Два мира» «чрезвычайно удавшееся» произведение. По его мнению, роман излишне перегружен ужасами, хотя, возможно, это и оправданно, так как «он отражает столь полные ужаса события». Революция, по Луначарскому, должна быть показана в литературе во всей своей неприкрытой правде, ее события не следует обертывать в «золотые бумажки». Эти события сами по себе должны агитировать и убеждать. «Мы, конечно, – заявляет он, – имеем полное право говорить всю правду. Вы это и делаете. Для душ сильных, революционных или склоняющихся к революции роман будет крепким призывом». Автор письма признается, что в «художественном отношении есть блестящие главы и страницы».[32]
В. И. Ленин, ознакомившись через Луначарского с романом «Два мира», отозвался о них, по словам А. М. Горького, следующим образом: «Очень страшная, жуткая книга, конечно, не роман, но хорошая, нужная книга».[33]
Эта «хорошая, нужная книга» в середине двадцатых годов вызвала плодотворную и оживленную дискуссию как среди рядовых читателей, так и в прессе. Особенно интересна подборка высказываний о романе «Два мира» крестьян одной из сибирских коммун, сделанная сельским учителем А. Топоровым и опубликованная в первом номере журнала «Сибирские огни» за 1928 год. А. Топоров читал его коммунарам вечерами глубокой осенью 1927 года (с 22 ноября по 5 декабря). Судя по многочисленным высказываниям слушателей, роман этот произвел на них колоссальное, потрясающее впечатление».[34]
Коммунары после длительной и бурной дискуссии пришли к единодушному выводу о том, что «Два мира» – «широчайшая и жуткая художественная история колчаковщины в Сибири. Это лучшая из всех известных нам книг, изображающих белый террор в нашем крае в 1918 – 1919 годах и всенародный мятеж против Колчака». По словам А. Топорова, «никакое другое произведение современной художественной литературы, прочитанное и разобранное в нашей аудитории, не зажгло у нас столько озлобления и ненависти против угнетателей трудового народа, сколько вызвали их «Два мира».
Рассказав о том, как жадно воспринимался коммунарами роман, насыщенный «незаурядной» художественной мощью, увлекательностью фабулы, все пронизывающей «страстью революционной романтики», А. Топоров замечает: «Во время читки «Двух миров» порой мне казалось, что я не читал, а бросал в публику стрелы. Так многочисленны и дружны были ответные взрывы восклицаний коммунаров».