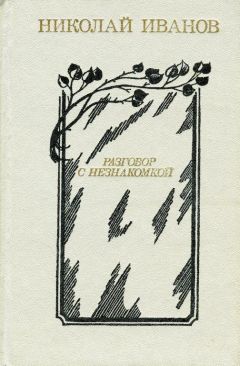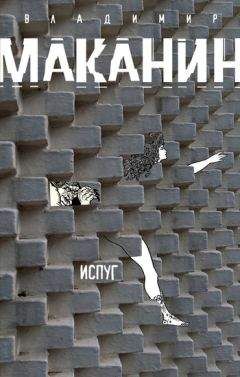И в этом бурном ритме времени нельзя не услышать ритм работы ленинской мысли, биение его сердца.
…Сотни, тысячи городов. И в каждом — улица Ленина. Киев, Владивосток, Волгоград, Женева, Хельсинки, Париж и Амстердам. Улицы Ленина! Если сложить вас воедино, хватит не на один виток вокруг планеты.
Сел я однажды в электричку. В первую, что попалась мне на Ярославском вокзале. Очень уж надо было поехать куда-нибудь в лес, побыть одному, о многом подумать.
День был субботний. В вагоне ехали грибники в полном снаряжении — в резиновых сапогах, с корзинками, ведрами, лукошками. И лишь одна бабка, сидевшая напротив меня, ехала без всей этой амуниции — в руках ее был небольшой, старательно увязанный белый узелок, чистенький белый платочек приоткрывал ее морщинистый смуглый лоб, вся она была сухонькая, ветхая, точно забытый на стерне поздний колосок. Старушка безотрывно смотрела в окно, не отведя ни разу глаз от мелькающих за путями дач, перелесков с березами и длинноствольными елками.
Электричка увезла меня за Пушкино и Абрамцево — куда-то под Загорск.
…Много километров прошагал я в тот день по проселочным дорогам, по лесным тропинкам и просекам. К концу дня шел к станции довольный собой, уставший доброй, освежающей усталостью. Чтобы не возвращаться с пустыми руками, нес в кепке пару белых и с полдюжины крепких влажных подберезовиков. Шел я к станции редколесьем вдоль железнодорожной линии. Примерно за километр до платформы, как я прикинул позднее, наткнулся на поляну. Вижу, осины шелестят, шепчутся между собой, алыми огоньками сверкают на них листья, а у подножья двух высоких, почти сросшихся, обнявших друг друга, берез темнеет что-то. Подхожу ближе… Мать честная! Старушка моя, что в электричке сидела напротив, припала на колени перед березами, обхватила их тонкими жилистыми руками и гладит, гладит ладонями шершавую кору. И причитает что-то, приговаривает.
Совсем близко подхожу, и хочется мне поднять старушку, помочь ей встать с земли, холодной уже, влажной. Она же не поворачивается, будто и не замечает меня. Гляжу, возле ее узелка, у ржавого комля березы — конверт серый. Не удержался я, не смог, поднял конверт тот с пожухлой травы. Разглядел на нем штамп полевой почты военного времени; сам конверт истерт до такой степени, что уже и не конверт это вовсе, а два слипшихся, полуистлевших лепестка бумаги, между ними — фотография. Взял грех я на душу — и фотографию посмотрел. На ней совсем юный, конопатый пацаненок-солдатик, стриженный под ежик, стоит прислонившись плечом к березам, как две капли воды похожим на эти, что передо мной, впрочем, как и на тысячи других русских берез. Разобрал я все-таки, постоявши рядом, что шепчет старушка.
— Сыночек, сыночка… — шепелявила она беззубым ртом. — Нашла-таки я твою березку… нашла, родимый. Где могилка твоя, неведомо мне, а березку сыскала все ж, сыска-ала…
Нет, не выдержал я больше и минуты… Положил фотографию поближе к узелку и отошел тихо от берез.
Иду по-над насыпью, а фотография стоит в глазах. Стоит, не пропадает, и солдат тот улыбается мне грустной улыбкой. И вдруг… Я аж остановился — оживать стала фотография перед взором моим. Подмигнул с нее солдат-салажонок.
— Ну, все?.. — спрашивает.
— Готово! — отвечает снимавший его, такой же молодой солдат в новом обмундировании, складывая гармошку потрепанного «Фотокора».
— Бежим!
Они бегут мимо березок и кустов. А вместе с ними бегут, появляясь со всех сторон, другие солдаты. Бегут, застегивая на ходу ремни, натягивая на головы гимнастерки. Они спешат к железнодорожной насыпи, откуда доносится уже призывный сигнал трубы. Взбираются солдаты по откосу, прыгают в вагоны тронувшегося поезда. Вот уже и последние ухватились за поручни покачивающегося вагона. Набирая скорость, уносится вдаль длинный эшелон. Шумит ветер в молодых березах. Березы клонят головы в сторону ушедшего состава, будто тоже рвутся туда, вперед…
Медленно исчезло, растаяло наваждение. Дошел я до станции. А на электричку не спешу. И вторую и третью пропустил. Уж и солнце заходить стало. И тут появилась она, забелела платочком, узелком своим, проходя возле кассы. Поравнялась со мной бабка и бодренько прошмыгнула мимо — к вагону. А перед входом обернулась, обвела глазами платформу, пристанционные деревья за путями, лесок вдалеке и скрылась в тамбуре. Пошел к вагону и я. День угасал.
Военные парады я любил с детства. Любил страстной мальчишеской любовью. Часами рассматривал книги с фотографиями парадов, собирал газетные вырезки, сердце мое замирало, когда я слушал по радио первомайскую или ноябрьскую трансляцию с Красной площади. Я уже не говорю о праздничных киножурналах, демонстрировавшихся в нашем сельском клубе. Бесконечно я мог смотреть одно и то же, боясь шевельнуться, замерев в темноте среди таких же, как и я, очарованных сорванцов.
Наверное поэтому, став уже взрослым, я любил смотреть и репетиции парадов. Московский гарнизон проводил их на стадионе «Динамо». Все было так же, как в праздник. Плавно, точно чуть приподнявшись над землей, плыли мимо трибун четкие прямоугольники подразделений. И гремел армейский оркестр, сияя на солнце огненной медью труб. И даже был принимающий парад.
При первой возможности я старался попасть в такое время на стадион. Однажды, пробираясь на одно из своих обычных, давно обжитых мест, я увидел внизу, под трибунами, мальчишку. Он стоял близко к марширующим, почти на плацу, у гаревой дорожки. Лет четырех был мальчишка, не больше, щупленький, светлоголовый. Он стоял, вытянувшись во фронт, и тянул, тянул маленькую руку к виску, отдавая честь проходящим мимо полкам. Чуть поодаль стояла женщина средних лет, — видно, его мать. Женщина стояла молча, не мешая мальчишке. На сей раз и я примостился неподалеку, на втором или третьем ряду. С час, вероятно, гремела на плацу музыка и печатали шаг строгие шеренги. И весь этот час стоял внизу, не шелохнувшись, мальчишка. Потом был объявлен перекур, и военные обступили мальчика. Он не шел ни к кому на руки и молча снизу вверх внимательно рассматривал подтянутых, парадно одетых офицеров и солдат. Я видел, как перед мальчиком присел на корточки молодой щеголеватый лейтенант и протянул ему плитку шоколада.
— Спасибо, дядя, я не ем это… — ответил малец.
Лейтенант пожал плечами.
— Что же ты хочешь, может, мороженое?
Мальчишка отрицательно покачал головой.
— Тогда что? — Лейтенант, видно, был настойчивым человеком и добрым.
— Звездочку… — ответил мальчик, показывая на его погон.
— Ну, брат, ты меня озадачил…
В динамике раздалась громкая команда, и лейтенант не успел договорить.
В этот раз надо было спешить и мне, ждали служебные дела.
…На стадионе я появился через полгода — в канун Первомая. Моросил мелкий весенний дождь. Каково было мое удивление, когда я на том же самом месте увидел мальчишку. Снова мимо него маршировали полки, и снова он тянул маленькую руку к виску. Оказавшись неподалеку от него, я увидел, что на его серенькой, блестящей от дождя курточке алеет солдатская звездочка.
Года два кряду, если не больше, в дни праздников меня не было в Москве — командировки, отпуск, в общем, разные обстоятельства. И когда я снова попал на стадион (это был опять Первомай), то я сразу же машинальна начал искать глазами мальчишку и не сразу обнаружил его. Во-первых, потому, что он заметно подрос, а во-вторых, на нем была новенькая, парадная, тщательно подогнанная под него, солдатская форма: и маленькие сапоги, и китель, и даже погончики. Мальчишка стоял на своем посту, а рядом по-прежнему была его мать. Эту форму подарили ему солдаты и офицеры Московского гарнизона.
Отец этого мальчишки был солдатом. Он погиб, когда мальчонке было три года. Погиб на границе в мирный солнечный день. Погиб на посту. Был рассветный час. Часть планеты спала. Когда вражеская пуля остановила сердце солдата, мальчишка, сын его, улыбался, обнимая подушку, может быть, видя во сне как раз его, отца.
…Прошли годы… Вырос паренек. Но я по-прежнему вижу его возле торжественных и грозных полков, держащих равнение на него, сероглазого русского мальчишку, принимающего по праву парад.
У СТЕН КРЕМЛЯ…Пересекаю Манежную площадь и, минуя пеструю, никогда не кончающуюся вереницу людей, прохожу Александровским садом. Вокруг воскресная сутолока, парочки на скамейках, детские коляски. Впереди меня высокий сухопарый старик со смуглым, морщинистым, точно иконописным лицом. С удивительной легкостью он несет довольно большой чемодан. Рядом трусит вприпрыжку веснушчатый мальчуган лет шести, похожий чем-то в профиль на деда, может быть, прадеда.