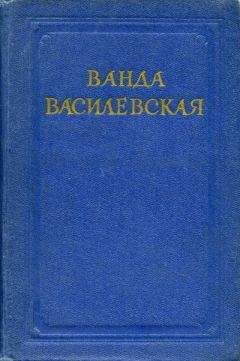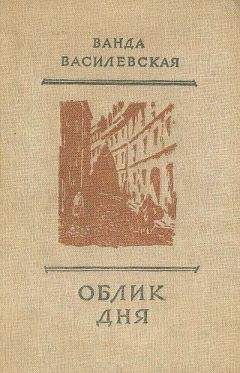После долгого стука Фекла Андреевна решилась, наконец, высунуть голову в коридор.
— В чем дело?
— Впустите меня, Фекла Андреевна, у меня к вам дело.
Старуха переступила через порог и закрыла за собой дверь, боязливо придерживая ручку.
— Там у меня не прибрано.
— Ничего, ничего, я только…
— Нет, нет… Мы уж лучше здесь.
— Ну, если вам охота стоять в коридоре, пожалуйста. Мне все равно. Вот какое дело, Фекла Андреевна. Ваша квартира уже две недели как готова. Там сказали, что если вы не вселитесь на этой неделе, то ее отберут.
— Как отберут?
— Так и отберут, что ж вы думаете, две квартиры держать — и здесь и там? Не те времена! И у меня есть уже жилец, так что вы, пожалуйста, не тяните, а забирайте вещи — и айда!
— Вещи! Какие вещи? — испугалась старуха.
— Ну, мебель, что там у вас есть…
— Ничего у меня нет. Откуда? Ничего, решительно ничего. Поломанный столик да шкаф. А вещи? Какие у меня могут быть вещи?
— Ну, это уж не мое дело, есть или нет. А только до субботы освободите комнату, — сказала управдомша и с высоко поднятой головой стала спускаться по лестнице.
— А вы тут чего? — спросила она подозрительно, заметив на площадке Фросю в наброшенном на плечи цветном платке. После случая с Тамарой Евгения Трофимовна вечно опасалась какого-нибудь несчастья и в каждом жильце подозревала возможного самоубийцу.
Евфросинья сердито огрызнулась:
— Что мне, стоять не разрешается? С улицы я пришла, что ли?
Управдомша сдержалась.
— К Дорошу?
— К самой, — неохотно буркнула Фрося и, увидев снизу Людмилу, двинулась к ней.
— А я к вам… Хотя не знаю, может лучше не надо, может вы заняты…
— Заходите, заходите, — пригласила Людмила.
Фрося вошла и робко остановилась на пороге.
— Никого нет?
— Никого.
Она подозрительно осмотрелась и потащила удивленную хозяйку в угол к печке. Лишь теперь Людмила заметила ее обветренные, потрескавшиеся губы и синие круги под глазами.
— Что случилось, вы больны?
— Нет, зачем больна? А вот просьба у меня к вам… Только, может, вам трудно, так я…
— Я ж не знаю, в чем дело.
— Да я хотела у вас попросить, только если вы можете, Людмила Алексеевна. Вы ко мне всегда так хорошо относились… А тут так вышло, что мне обязательно нужно сто рублей… Я вам верну, через несколько дней верну…
— Сто рублей? Ну, разумеется, пожалуйста. Присядьте пока, Фрося.
— Ничего, я постою, — ответила она хмуро, плотнее закутываясь в платок, словно ей было холодно. Большие темные глаза, избегая взгляда Людмилы, смотрели в сторону.
Людмила отсчитывала потрепанные десятирублевки. Фрося, не глядя, дрожащими пальцами взяла деньги.
— Спасибо. Через несколько дней, ну самое большое — через неделю…
— Не срочно. Можете задержать и дольше.
— Дольше? Нет, зачем же… Я думаю, через неделю как раз успею.
Она повернулась и, не прощаясь, исчезла во тьме коридора. На мгновенье Людмила встревожилась. Фрося была какая-то странная. Хотя, быть может, просто больна, а может, неприятно было просить взаймы, ведь она обращалась к Людмиле впервые. Может, какие-нибудь новые осложнения с мужем.
Но вскоре она позабыла о своих наблюдениях: пришла Ася и наполнила квартиру щебетом. Потом явился Алексей, и пришлось подогревать ему обед.
Только на другой день утром вспомнила она о Фросе и снова забеспокоилась. Как бы узнать, что там происходит? И она решила пойти выяснить. Дверь открыл милиционер. Маленькая уютная квартирка зияла пустотой, на полу валялся мусор, на столе стояла груда немытых тарелок с остатками еды.
— Фроси нет? Я к ней на минутку.
Милиционер подал ей стул и исподлобья глянул на гостью воспаленными глазами.
— Нет… Уехала.
— Уехала? — удивилась Людмила. — Ведь она же была у меня вчера днем.
— Ну да, днем была, а вечером собралась и уехала. Прихожу ночью со службы, а ее уже нет… Только письмо оставила, что едет в деревню, к нему.
— К кому?
— Вы же знаете, Людмила Алексеевна, Степан в деревне, там его старики живут, колхозники… Вот и она туда.
— А дети?
— И детей забрала.
— И маленькую?
— И маленькую… Дети должны быть с матерью, пишет. Ну вот, забрала свое и ихнее тряпье, больше ничего не тронула. Деньги были дома — и те оставила… Уж не знаю, как она и уехала. Разве Степан ей прислал, да и то нет, они и не переписывались.
— Деньги она у меня заняла, — после некоторого колебания тихо сказала Людмила.
— У вас? Так вы знали?
— Да нет… Просто пришла, попросила одолжить на несколько дней…
— Так, значит… — как бы подтвердил милиционер и тупо уставился в пространство.
— Как же теперь будет? — неловко спросила Людмила, которую это напряженное молчание тяготило.
— Как будет? А вот так и будет… Пойдет человек на службу, придет со службы, тарелки супа некому будет подать, печку затопить. Ни поговорить с кем, ни с детьми поиграть… Вот тебе и жизнь!
— Дочка ведь ваша.
— Моя… А что с того? Я, что ли, ее родил, я ее кормил? Оно, конечно, без отца ребенку плохо, а без матери и того хуже… Что я ей тут дам? Будет одна дома сидеть. Меня по целым дням, а то и по ночам дома нет. Она вот написала, что дети должны быть с матерью. И правильно… А я как? — спросил он вдруг и взглянул на нее с такой болью в глазах, что ей стало не по себе.
— Вы же еще молодой человек, найдете себе жену, — неуклюже утешала она.
— Жену? Жену, конечно, можно… Только это будет не Фрося, уж так я к ней относиться не буду… Нет, я уж знаю. Как вспомню Фросю, так другой возле меня и житья не будет. Так уж лучше не надо, зачем человека мучить?
— Может, она вернется…
— Вернется? Тогда зачем уезжать? Нет, нет, уж я знаю. Сперва, когда Степан уехал, я думал, как-нибудь обойдется. Да, куда!.. Туча тучей ходила, и, как приду, вижу — плакала. При мне не плачет, а как приду, вижу — глаза опухли. И говорить ни о чем не хочет, — то, скажет, голова болела, то зубы. А зубы у нее, как стеклышко, ни пятнышка. Видел я, что дело неладно, что оно тем и кончится… Даже и не поговорила, уехала — и точка. Нет, не вернется. А хоть бы и вернулась, все равно ее туда будет тянуть. Он первый — что ж, видно, так оно и должно быть, первый имеет больше прав. И девочку жалко, ваша Ася с ней часто играла, умница такая… А теперь что ж…
Он тупо уставился в пол, где валялись какие-то лоскутки и тряпки, видимо брошенные при укладке вещей. Людмила молчала, не зная, что сказать. Наконец, милиционер поднял голову.
— Да, это уж так… Вот денег соберу немного, пошлю дочке, им там тоже небось нелегко. А вам я долг верну… Сколько она взяла?
— Нет, нет, — запротестовала Людмила. — Она одолжила у меня, она и пришлет, вы об этом не беспокойтесь…
— Как же, раз взяла, надо отдать.
— Это уж наше дело. Вы лучше пошлите дочке, если у вас будут.
— Дочке-то я пошлю. Вот ведь какая — и денег взять не захотела, а ведь есть, все деньги всегда у нее были… Оставила, ни копейки не взяла. Брошку ей подарил, когда девочка народилась, так и брошку оставила. А ведь я ей слова поперек никогда не сказал… Почему же нельзя было как-нибудь по-человечески, а вот этак, тишком, молчком, когда человек на службе?
— Ей ведь тоже трудно…
— Трудно! А мне легко? Письмо написала, а много ли напишешь в письме! Эх, Людмила Алексеевна! Хоть бы сказала: так, мол, и так.
— Она же написала.
— Написала… Написать легко! А я вот прихожу — темно, холодно, будто год здесь никого не было. И записочка на столе. Как собаке кость. А уж брошку оставила, так я даже и не знаю, как это можно… Что я — прокаженный, что ли, что все, что от меня, — вон, долой, не нужно?!
Он вдруг заметил, что почти не одет.
— Вы простите, Людмила Алексеевна, так я от этого всего расстроился… Как пришел со службы, спать было лег, да какой там сон!.. Вы уж простите!
— Ничего, ничего, пустяки, — успокаивала Людмила. — А вы ей напишите, — не обязательно ведь людям расходиться в ссоре. Ей там тоже нелегко. Вы подождите, поуспокойтесь и напишите.
— Вы думаете?
— Наверняка. Хорошее дело сделаете. Они там оба о вас думают, и им тоже невесело.
— Может, и так… Она женщина добрая, собаку бездомную и ту не обидит. И Степан хороший парень, товарищ… Конечно, им тоже…
— Ну, вот видите, — обрадовалась Людмила.
— Так вы советуете написать?
— Разумеется…
— Так, мол, и так, Фрося, обиды у меня на тебя нет, а деньги надо было взять. И об этой брошке…
— Можно и о брошке.
— Да, так и напишу. Конечно, нужно написать, чтобы она не подумала…
— Беспокоится о вас, наверно, как вы тут.
— Беспокоится? Может, и беспокоится. Три-то года небось не три дня… И никогда ни одного дурного слова… Конечно, Степан, он первый… Эх, девчонка-то моя… Хотя, быть может, в деревне ребенку лучше, а потом она, может, согласится отдать?