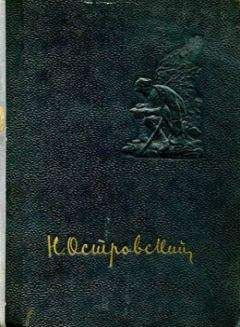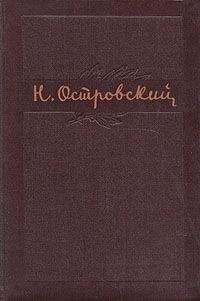– Ряд рабочих просит заседание рассмотреть их заявление, подписанное тридцатью семью товарищами. – И он прочел заявление:
«В железнодорожный коллектив Коммунистической партии большевиков станции Шепетовка Юго-западной железной дороги.
Смерть вождя призвала нас в ряды большевиков, и мы просим проверить нас на сегодняшнем заседании и принять в партию Ленина».
Вслед за этими краткими словами стояли две колонны подписей.
Сиротенко читал их, останавливаясь после каждой на несколько секунд, чтобы собранные в зале могли запомнить знакомые имена:
– Политовский Станислав Зигмундович – паровозный машинист, тридцать шесть лет производственного стажа.
По залу пробежал гул одобрения.
– Корчагин Артем Андреевич – слесарь, семнадцать лет производственного стажа.
– Брузжак Захар Васильевич – паровозный машинист, двадцать один год производственного стажа.
Гул в зале нарастал, а человек у стола продолжал называть фамилии, и зал слушал имена кадровиков железно-мазутного племени.
Совсем тихо стало в зале, когда к столу подошел первый поставивший свою подпись.
Старик Политовский не мог не волноваться, рассказывая слушающим его историю своей жизни:
– …Что же мне еще сказать, товарищи? Жизнь у рабочего человека в старое время была известно какая, Жил в кабале и пропадал нищим в старости, Что ж, признаюсь, когда революция настала, то считал я себя стариком. Семья на плечи давила, и проглядел я дорогу в партию. И хотя в драке никогда врагу не помогал, но и в бой ввязывался редко. В девятьсот пятом в варшавских мастерских был в забастовочном комитете и с большевиками заодно шел. Молодость была тогда и ухватка горячая. Что старое вспоминать! Ударила меня Ильичева смерть по самому сердцу, потеряли мы навсегда своего друга и старателя, и нет у меня больше слов о старости!.. Пущай кто покрасивее скажет, я не мастак на слово. Одно только подтверждаю: мне с большевиками по пути, и никак не иначе.
Седая голова машиниста упрямо качнулась, и взгляд из-под седых бровей твердо и немигающе устремлен в зал, от которого он как бы ждал решения.
Ни одна рука не поднялась дать отвод этому низенькому, с седой головой человеку, и ни один не воздержался при голосовании, когда бюро просило беспартийных сказать свое слово.
От стола Политовский уходил коммунистом.
Каждый в зале понимал, что сейчас происходит необычное. Там, где только что стоял машинист, уже громоздилась фигура Артема. Слесарь не знал, куда деть свои длинные руки, и сжимал ими ушастую шапку. Протертый на бортах овчинный полушубок распахнут, а ворот серой солдатской гимнастерки, аккуратно застегнутый на две медные пуговицы, делает фигуру слесаря празднично опрятной. Артем повернул лицо к залу и мельком уловил знакомое женское лицо: среди своих из пошивочной мастерской сидела Галина, дочка каменотеса. Она улыбнулась ему прощающе, в ее улыбке было одобрение и еще что-то недосказанное, скрытое в уголках губ.
– Расскажи свою биографию, Артем! – услышал слесарь голос Сиротенко.
Трудно начинал свою повесть Корчагин-старший, не привык говорить на большом собрании. Только теперь почувствовал, что не передать ему всего накопленного жизнью. Тяжело складывались слова, да еще волнение мешало говорить. Никогда не испытывал он чего-либо подобного. Он отчетливо сознавал, что жизнь его пошла на крутой перелом, что он, Артем, делает сейчас последний шаг к тому, что согреет и осмыслит его заскорузло-суровое существование.
– Было нас у матери четверо, – начал Артем.
В зале тихо. Шестьсот внимательно слушают высокого мастерового с орлиным носом и глазами, спрятанными под черной бахромой бровей.
– Мать кухарила по господам. Отца мало помню, неполадки у него с матерью были. Заливал он в горло больше чем следует. Жили мы с матерью. Невмоготу ей было столько ртов выкормить. Платили ей господа в месяц четыре целковых с харчами, и гнула она горб от зари до ночи. Посчастливилось мне две зимы ходить в начальную школу, научили меня читать и писать, а как мне десятый год пошел, не стало у матери иного спасения, как отвести меня в слесарную мастерскую шкетом на выучку. Без жалования на три года – за одни харчи… Хозяин мастерской был немец, по фамилии Ферстер. Не хотел он было меня брать по малости, по хлопец я был здоровый, и мать мне два года прибавила. Был я у этого немца три года. Ремеслу меня не учили, а гоняли по хозяйским делам да за водкой. Пил он на-мертвую… Гонял и за углем и за железом… Заделала меня хозяйка своим холуем: таскал я у нее горшки и чистил картошку. Каждый норовил пнуть ногой, часто совсем без причины – так уж, по привычке: не потрафлю хозяйке чем – она из-за пьянки мужа на всех зла была, – хлестнет меня раз-другой по морде. Вырвешься от нее на улицу, а куда пойдешь, кому пожалуешься? Мать за сорок верст, да и у ней приюту нет… В мастерской не лучше. Заправлял там всем брат хозяйский. Любил этот гад надо мной шутки строить. «Подай, говорит, мне вон ту шайбу, – и покажет на землю в угол, где кузнечный горн. Я туда, хвать шайбу рукой, а он ее только что отковал, из горна вынули. На земле она лежит черная, а хватишь – сожжешь пальцы до мяса. Кричишь от боли, а он ржет, заливается. Невмоготу мне стало от этой молотилки, сбежал я к матери. А той девать меня некуда. Привезла она меня к немцу обратно, везла и плакала. На третий год стали мне кое-что покалывать по слесарному, а мордобитие продолжали. Убег я опять, подался в Староконстантинов. В этом городе нанялся в колбасную мастерскую и отсобачил там, кишки моючи, полтора с лишним года. Проиграл наш хозяин свое заведение, не заплатил нам за четыре месяца ни гроша и смылся куда-то. Так я из этой трущобы выбрался. Сел на поезд, в Жмеринке вылез и пошел работу искать. Спасибо одному деповскому, посочувствовал он моему положению. Разузнал, что я кое-что по слесарному кумекаю, взялся за меня, как за племянника, по начальству ходатайствовать. По росту дали мне семнадцать лет, и стал я подручным слесарем. Здесь я девятый год работаю. Вот оно насчет жизни прежней, а про здешнее вы все знаете.
Артем провел шапкой по лбу и глубоко вздохнул. Надо было сказать еще самое главное, самое для него тяжелое, не дожидаясь чьего-либо вопроса. И, вплотную сдвинув густые брови, он продолжал свою повесть:
– Каждый может меня спросить: почему я не в большевиках еще с той поры, когда огонь загорелся? Что ж мне на это сказать? Ведь мне до старости еще далеко, а вот только нонче нашел сюда свою дорогу. Что ж я тут скрывать буду? Проглядели мы эту дорогу, нам еще в восемнадцатом, когда против немца бастовали, начинать надо было. Жухрай, матрос, с нами не раз разговаривал. Только в двадцатом взялся я за винтовку. Кончилась заваруха, поскидали белых в Черное море, повертались мы обратно. Тут семья, дети… Завалился я в домашность. Но когда погиб наш товарищ Ленин и партия бросила клич, посмотрел я на свою жизнь и разобрался, чего в ней не хватает. Мало свою власть защищать, надо всей семьей заместо Ленина, чтобы власть советская, как гора железная, стояла. Должны мы большевиками стать – партия наша ведь?
Просто, но с глубокой искренностью, смущаясь за необычный слог своей речи, закончил слесарь и будто снял с плеч тяжесть, выпрямился во весь рост и ждал вопросов.
– Может, кто желает спросить о чем-нибудь? – нарушил тишину Сиротенко.
Людские ряды зашевелились, но из зала ответили не сразу. Черный, как жук, кочегар, явившийся на собрание прямо с паровоза, бросил решительно:
– О чем его спрашивать? Разве мы его не знаем? Дать ему путевку, и все тут!
Коренастый, красный от жары и напряжения кузнец Гиляка прохрипел простуженно:
– Такой под откос не слезет, товарищ будет крепкий. Голосуй, Сиротенко!
В задних рядах, где сидели комсомольцы, поднялся один, невидный в полутьме, и спросил:
– Пусть товарищ Корчагин скажет, почему он на землю осел и не отрывает ли его крестьянство от пролетарской психологии.
В зале прошел легкий шум неодобрения, и чей-то голос запротестовал:
– Говори по-простому! Нашел, где звонарить…
Но Артем уже отвечал:
– Ничего, товарищ. Этот парень правильно говорит, что я на землю осел. Это верно, но от этого я рабочей совести не растерял. Кончилось это с нынешнего дня. Переселяюсь с семьей к депо поближе, здесь верней. А то мне от этой земли дышать трудно.
Еще раз дрогнуло сердце Артема, когда глядел на лес поднятых рук, и, уже не чувствуя тяжести своего тела, не сутуля спины, пошел к своему месту. Сзади услышал голос Сиротенко:
– Единогласно.
Третьим у стола президиума остановился Захар Брузжак. Неразговорчивый старый помощник Политовского, сам уже давно ставший машинистом, заканчивал рассказ о своей трудовой жизни и, когда дошел до последних дней, произнес тихо, но всем было слышно:
– Я за своих детей доканчивать обязан. Не для того они умирали, чтобы я на задворках со своим горем застрял. Ихнюю погибель я не заполнил, а вот смерть вождя глаза мне открыла. За старое вы меня не спрашивайте, настоящая наша жизнь начинается заново.