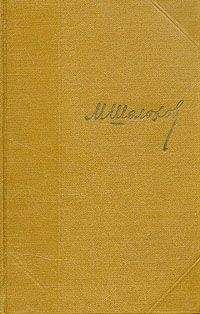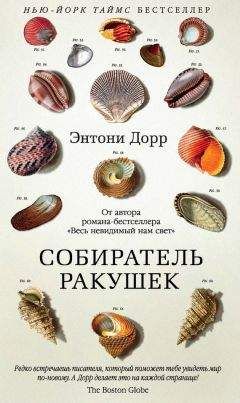В первых числах августа сотник Евгений Листницкий решил перевестись из лейб-гвардии Атаманского полка в какой-либо казачий армейский полк. Он подал рапорт и через три недели выхлопотал себе назначение в один из полков, находившихся в действующей армии. Оформив назначение, он перед отъездом из Петрограда известил отца о принятом решении коротким письмом:
«Папа, я хлопотал о переводе меня из Атаманского полка в армию. Сегодня я получил назначение и уезжаю в распоряжение командира 2-го корпуса. Вас, по всей вероятности, удивит принятое мною решение, но я объясняю его следующим образом: меня тяготила та обстановка, в которой приходилось вращаться. Парады, встречи, караулы — вся эта дворцовая служба набила мне оскомину. Приелось все это до тошноты, хочется живого дела и… если хотите — подвига. Надо полагать, что во мне сказывается славная кровь Листницких, тех, которые, начиная с Отечественной войны, вплетали лавры в венок русского оружия. Еду на фронт. Прошу вашего благословения. На той неделе я видел императора перед отъездом в Ставку. Я обожествляю этого человека. Я стоял во внутреннем карауле во дворце. Он шел с Родзянко и, проходя мимо меня, улыбнулся, указывая на меня глазами, сказал по-английски: «Вот моя славная гвардия. Ею в свое время я побью карту Вильгельма». Я обожаю его, как институтка. Мне не стыдно признаться вам в этом, даже несмотря на то, что мне перевалило за 28. Меня глубоко волнуют те дворцовые сплетни, которые паутиной кутают светлое имя монарха. Я им не верю и не могу верить. На днях я едва не застрелил есаула Громова за то, что он в моем присутствии осмелился непочтительно отозваться об ее императорском величестве. Это гнусно, и я ему сказал, что только люди, в жилах которых течет холопская кровь, могут унизиться до грязной сплетни. Этот инцидент произошел в присутствии нескольких офицеров. Меня охватил пароксизм бешенства, я вытащил револьвер и хотел истратить одну пулю на хама, но меня обезоружили товарищи. С каждым днем мне все тяжелее было пребывать в этой клоаке. В гвардейских полках — в офицерстве, в частности, — нет того подлинного патриотизма, страшно сказать — нет даже любви к династии. Это не дворянство, а сброд. Этим, в сущности, объясняется мой разрыв с полком. Я не могу общаться с людьми, которых не уважаю. Ну, кажется, все. Простите за некоторую несвязность, спешу, надо увязать чемодан и ехать к коменданту. Будьте здоровы, папа. Из армии пришлю подробное письмо. Ваш Евгений».
Поезд на Варшаву отходил в восемь часов вечера. Листницкий на извозчике доехал до вокзала. Позади в сизовато-голубом мерцании огней лег Петроград. На вокзале тесно и шумно. Преобладают военные. Носильщик уложил чемодан Листницкого и, получив мелочь, пожелал их благородию счастливого пути. Листницкий снял портупею и шинель, развязал ремни, постелил на скамье цветастое шелковое кавказское одеяло. Внизу, у окна, разложив на столике домашнюю снедь, закусывал худой, с лицом аскета, священник. Отряхая с волокнистой бороды хлебные крошки, он угощал сидевшую против него смуглую москлявенькую девушку в форме гимназистки.
— Отпробуйте-ко. А?
— Благодарю вас.
— Полноте стесняться, вам, при вашей комплекции, надо больше кушать.
— Спасибо.
— Ну, вот ватрушечки испробуйте. Может быть, вы, господин офицер, отведаете?
Листницкий свесил голову.
— Вы мне?
— Да, да. — Священник буравил его угрюмыми глазами и улыбался одними тонкими губами под невеселой порослью волокнистых, в проталинках усов.
— Спасибо. Не хочу.
— Напрасно. Входящее в уста не оскверняет. Вы не в армию?
— Да.
— Помогай вам бог.
Листницкий сквозь пленку дремы ощущал будто издалека добиравшийся до слуха густой голос священника, и мнилось уже, что это не священник говорит жалующимся басом, а есаул Громов.
— …Семья, знаете ли, бедный приход. Вот и еду в полковые духовники. Русский народ не может без веры. И год от году, знаете ли, вера крепнет. Есть, конечно, такие, что отходят, но это из интеллигенции, а мужик за бога крепко держится. Да… Вот так-то… — вздохнул бас, и опять поток слов, уже не проникающих в сознание.
Листницкий засыпал. Последнее, что ощутил наяву, — запах свежей краски от дощатого в мелкую полоску потолка и окрик за окном:
— Багажная принимала, а мне дела нет!
«Что багажная принимала?» — ворохнулось сознание, и ниточка незаметно оборвалась. Освежающий после двух бессонных ночей, навалился сон. Проснулся Листницкий, когда поезд оторвал уже от Петрограда верст сорок пространства. Ритмично татакали колеса, вагон качался, волнуемый рывками паровоза, где-то в соседнем купе вполголоса пели, лиловые косые тени бросал фонарь.
Полк, в который получил назначение сотник Листницкий, понес крупный урон в последних боях, был выведен из сферы боев и спешно ремонтировался конским составом, пополнялся людьми.
Штаб полка находился в большой торговой деревне Березняги. Листницкий вышел из вагона на каком-то безыменном полустанке. Там же выгрузился походный лазарет. Справившись у доктора, куда направляется лазарет, Листницкий узнал, что он перебрасывается с Юго-Западного фронта на этот участок и сейчас же тронется по маршруту Березняги — Ивановка — Крышовинское. Большой багровый доктор очень нелюбезно отзывался о своем непосредственном начальстве, громил штабных из дивизии и, лохматя бороду, поблескивая из-под золотого пенсне злыми глазами, изливал свою желчную горечь перед случайным собеседником.
— Вы меня можете подвезти до Березнягов? — перебил его на полуслове Листницкий.
— Садитесь, сотник, на двуколку. Поезжайте, — согласился доктор и, фамильярно покручивая пуговицу на шинели сотника, ища сочувствия, грохотал сдержанным басом: — Ведь вы подумайте, сотник: протряслись двести верст в скотских вагонах для того, чтобы слоняться тут без дела, в то время как на том участке, откуда мой лазарет перебросили, два дня шли кровопролитнейшие бои, осталась масса раненых, которым срочно нужна была наша помощь. — Доктор со злым сладострастием повторил: «кровопролитнейшие бои», налегая на «р», прирыкивая.
— Чем объяснить эту несуразицу? — из вежливости поинтересовался сотник.
— Чем? — доктор иронически вспялил поверх пенсне брови, рыкнул: — Безалаберщиной, бестолковщиной, глупостью начальствующего состава, вот чем! Сидят там мерзавцы и путают. Нет распорядительности, просто нет здравого ума. Помните Вересаева «Записки врача»? Вот-с! Повторяем в квадрате-с.
Листницкий откозырял, направился к транспорту, вслед ему каркал сердитый доктор:
— Проиграем войну, сотник! Японцам проиграли и не поумнели. Шапками закидаем, так что уж там… — и пошел по путям, перешагивая лужицы, задернутые нефтяными радужными блестками, сокрушенно мотая головой.
Смеркалось, когда лазарет подъехал к Березнягам. Желтую щетину жнивья перебирал ветер. На западе корячились, громоздясь, тучи. Вверху фиолетово чернели, чуть ниже утрачивали чудовищную свою окраску и, меняя тона, лили на тусклую ряднину неба нежносиреневые дымчатые отсветы; в средине вся эта бесформенная громада, набитая как крыги в ледоход на заторе, рассачивалась, и в пролом неослабно струился апельсинного цвета поток закатных лучей. Он расходился брызжущим веером, преломляясь и пылясь, вонзался отвесно, а ниже пролома неописуемо сплетался в вакханальный спектр красок.
У придорожной канавы лежала пристреленная рыжая лошадь. Задняя нога ее, дико задранная кверху, блестела полустертой подковой. Листницкий, подпрыгивая на двуколке, разглядывал лошадиный труп. Ехавший с ним санитар пояснил, сплевывая на вздувшийся живот лошади:
— Зерна обожралась… объелась, — поправился он, взглянув на сотника; хотел еще раз сплюнуть, но слюну проглотил из вежливости, вытер губы рукавом гимнастерки. — Издохла — а убрать не надо… У германцев, у тех не по-нашему.
— А ты почем знаешь? — беспричинно злобно спросил Листницкий и в этот момент так же беспричинно и остро возненавидел равнодушное, с оттенком превосходства и презрения, лицо санитара. Оно было серовато, скучно, как сентябрьское поле в жнивье; ничем не отличалось от тысячи других мужицко-солдатских лиц, тех, которые встречал и догонял сотник на пути от Петрограда к фронту. Все они казались какими-то вылинявшими, тупое застыло в серых, голубых, зеленоватых и иных глазах, и крепко напоминали хожалые, давнишнего чекана медные монеты.
— Я в Германии три года до войны прожил, — не спеша ответил санитар. В оттенке его голоса прозвучало то же превосходство и презрение, которое уловил сотник во взгляде. — Я в Кенисберге на сигарной фабрике работал, — скучающе ронял санитар, погоняя маштака узлом ременной вожжи.
— Помолчи-ка! — строго сказал Листницкий и повернулся, оглядывая голову лошади с упавшей на глаза челкой и обнаженным, обветревшим на солнце навесом зубов.