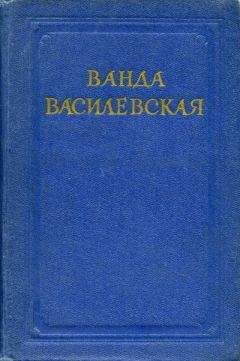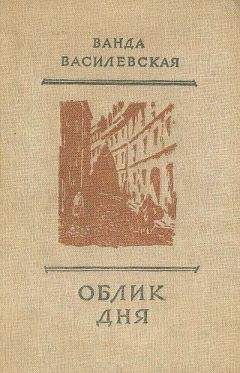— Люда, что ты?
Он обнял ее и даже удивился, какая она маленькая. Как девочка. Плечо было теплое, и, наклонив голову, он коснулся губами ее волос. Они пахли прежним, знакомым запахом, легким и неуловимым.
— Люда!
— Да, да, Алексей.
— Не плачь, не плачь…
— Это ничего, Алексей, ты не обращай внимания… Это ничего, ничего.
Она с усилием улыбнулась сквозь слезы. Он крепко обнял ее другой рукой, снизу на него взглянули голубые глаза с коричневыми крапинками.
— Видишь ли, Люда, я уже давно хотел… Надо поговорить.
— Нет, нет, Алексей, все уже хорошо, все хорошо, не надо ни о чем говорить, ничего не надо вспоминать… Считай, что ты только сегодня приехал, слышишь? Сегодня вернулся — и все хорошо. Алексей, ох, как хорошо…
— А как же с разводом? — плутовато улыбнулся он. Она положила ему пальцы на губы.
— Мы ведь условились, что ты приехал сегодня. Ничего еще не было, ничего не было. Зачем вспоминать? Так лучше.
— Ничего не было… Было очень многое, Люда.
— Но теперь мы будем говорить только о том, что было настоящее, что чего-то стоило, что останется, хорошо? Не будем, Алексей, вспоминать, — в конце концов все это было так глупо, и оба мы были виноваты, так зачем же?
— Хорошо, Люда, я приехал только сегодня. Ну-ка, покажись, как ты выглядишь, я уж так давно, так давно тебя не видел!
— Не стоит смотреть, Алексей! Теперь будет иначе. Тогда и посмотришь, ладно?
— Нет, любимая, ты все та же, ты всегда та же. Помнишь, как ты меня тогда отчитывала за Катю? Как назывались эти цветы?
— Где? — не поняла она.
— Ну там, в парке, на скамейке, такие красные?
— Ах да, канны…
— Ведь я уже тогда любил тебя, Люда.
— Ну, уж и тогда…
— Да, да, уже тогда, Люда… Да, канны, конечно… Тогда я подумал, что ты можешь быть чем-то очень важным в моей жизни. А оказалось больше: ты моя жизнь.
— Алексей!
— И вот мы снова вместе, моя любимая. Чего же ты опять плачешь?
— Ничего, Алексей… Так как-то…
— Не нужно… Ведь все уже хорошо, все хорошо, правда?
— Да, да, Алексей.
Ей хотелось еще и еще повторять его имя. Громко, отчетливо: Алексей, Алексей. Это имя касалось губ сладостным, давно забытым и все же вечно живущим в сердце поцелуем. Таков был Алексей. Она искала прежнее местечко на его плече, куда привыкла склонять голову, местечко, с которого можно было видеть черные ресницы Алексея. Знакомое пожатие руки, когда пальцы покоились в его сильной руке, переплетаясь с ее тонкими пальцами. Вот он и нашелся, вернулся — прежний Алексей: он был все тот же, до мельчайших подробностей, тот же, что и прежде, до тех дурных дней, которые неведомо откуда пришли, неведомо почему так долго длились.
— Мы были страшно глупы, Алексей, — сказала она вдруг с таким глубоким удивлением, что Алексей засмеялся.
Теперь, глядя на нее вблизи, он ясно видел меты, оставленные временем и трудными днями. В светлых густых волосах, пушистое обилие которых так восхищало его, — седая прядка; она шире, чем ему тогда показалось. И на лбу между бровями появилась прямая четкая морщинка — новая черта, которой раньше не было. И щеки потеряли прежнюю персиковую свежесть, прежний, девичий овал. Но как раз это и наполняло его новой, незнакомой нежностью и делало Людмилу еще более близкой, любимой и своей. Как знать, быть может, если бы эти годы прошли для нее бесследно, если бы она была такая же, как прежде, и цвела непобедимым здоровьем, буйной пышной молодостью, им было бы труднее найти друг друга. Он чувствовал, как беспокойно колотится у его плеча ее сердце. Оно билось громко, неровно и, по мере того как он гладил ее волосы, постепенно успокаивалось, затихало, переходило на ровный, правильный ритм.
— Мне нужно столько рассказать тебе, Люда.
— Да, да, Алексей.
Но сейчас разговаривать не хотелось. И Алексей вдруг понял, как далеко ушли те дни — сумрак лесов, мрак окружения. О чем же еще нужно рассказать Люде? У него в сущности слов и не было, которыми он мог бы рассказать об этом. Это осталось уже за какой-то навсегда захлопнувшейся дверью. В это мгновение Алексей воспринимал то, минувшее, как старую-старую историю. Она вклинилась в его жизнь, но ему ближе был Алексей довоенный, Алексей, только уходивший на фронт, чем тот, что слушал у костра рассказ узбека. О чем же еще нужно рассказать Люде? О прахе Тамерлана, о своей недавней тоске по фронтовой жизни? Нет, этого уже не было. Это уже поблекло и в сердце и в памяти. Потому, что тут же, рядом, стремительным течением неслась жизнь, делалось огромное дело. Еще одно усилие, еще одно напряжение — и в городе засияет свет. Нет, эта жизнь была не менее полной и бурной. Она была менее страшна, но не менее трудна, и если найти в ней свое место, то ощущался ее вкус, острый и прекрасный. Он вспомнил горькие минуты, пережитые, когда приезжал Торонин, вспомнил еще много-много горьких минут, но об этом уже незачем было рассказывать. Что же осталось, что надо было сказать сейчас, немедленно?
— Я люблю тебя, Люда, — медленно, как бы в глубоком раздумье сказал он.
Она улыбнулась. Да, да. Это и было то единственное, что нужно было сказать сейчас же, немедленно, чего нельзя было откладывать. Потому что достаточно было этого единственного слова, сказанного и выслушанного, чтобы вся жизнь преобразилась.
Людмила почувствовала в себе новую силу. Нет, неправда то, что ей часто казалось. Она еще не стара. Сердце не состарилось, и глаза сейчас заблестели новым блеском вернувшейся молодости, и даже эта прядка седых волос — какие пустяки! — не так уж видна. Нет, незачем было смотреться в зеркало, стоило лишь взглянуть в глаза Алексея, и оказалось, что она красива, и — что бы там ни было — еще молода.
Теперь хотелось скорей, как можно скорей отбросить все старое, все, все, что было связано с прежними днями. Даже эту синюю вязаную кофточку, которую она целый год носила на работе. Даже этот горшочек гибнущих без солнца примул, эту грязную лестницу, этот мрачный двор.
Этого хотелось и Людмиле и Алексею. И Алексей прямо-таки содрогнулся, когда, отправившись проверить, готова ли новая квартира, столкнулся на лестнице с Феклой Андреевной.
— А вы к кому? — невольно спросил он, хотя ему не хотелось вступать в разговор.
— А я так… квартирку мне здесь дали.
— Квартирку? — протянул Алексей, но старуха уже ушла своей неверной, семенящей походкой. Алексей помрачнел. Минуту назад там, наверху, он еще радостно подумал, что мрачный дом, дом, где он пережил тяжелые минуты — болезнь, недоразумение с Людмилой, ожидание работы, — целый период, который он охотно вычеркнул бы из своей жизни, что все это они оставляют позади. Ему казалось, что между этими двумя квартирами — старой и новой — пролегает огромная пропасть, течет глубокая река и оттуда, с того мрачного берега, ничего нельзя брать с собой в эти солнечные комнаты. Оказывается, и сюда тащится, как тень, эта старуха, и снова будет торчать у их дверей, снова начнет бочком присаживаться на кухне и шумно втягивать в себя чай, грея на стакане узловатые пальцы.
Но об этом не было времени думать. Белый клочок бумаги, телеграмма с двумя фразами, заставил позабыть обо всем. Ехала турбина. Отремонтированная, готовая. Ехала назад, чтобы быть водруженной на фундаменте, который трудолюбивые руки воздвигли на прежнем месте. Ехала, чтобы, как живое сердце, оживить мертвое здание. Иногда он просто боялся осознать, что это значит — месяцы труда, борьбы и сомнений — и вот, наконец, он приходит к решительному моменту, к моменту, когда уже не в будущем времени можно будет сказать: даем свет. Единственное, что он успел сделать в новой квартире, это ввернуть лампочки. Он еще не знал, когда будет свет. Но пусть будут лампочки — видимый, осязательный знак, что он верит в свою электростанцию. Они пока как стеклянные мыльные пузыри, пока они мертвы и ненужны, но скоро загорятся, должны загореться. Разумеется, можно ввернуть их и через неделю и через две, да как знать, быть может, и через месяц, но ему так хочется этого: пусть на столе еще коптит лампа или быстро тающая свечка. Но они пусть ждут. Провод, по которому, как радостная дрожь, пройдет ток. Холодная, неживая проволочка, которая накалится золотым светом. Стеклянный шарик, который засияет осуществленной мечтой.
— Переездом придется заняться тебе самой, Люда, — сказал он, и Людмила кивнула головой. Она знала о турбине, знала, что подошло время самой напряженной, лихорадочной работы. Да ей и самой хотелось устроить эту квартиру так, чтобы Алексей пришел на готовое, — чтобы на окнах висели тюлевые занавески, стоял накрытый стол, чтобы день, когда все будет готово, стал праздником.
Профессор Демченко наверху тоже готовился. Ревностно, почти благоговейно. В новой квартире были две комнаты, но была и третья, с окнами на две стороны, мастерская. Место где, наконец, можно будет натянуть большое полотно и написать самую главную картину в своей жизни — победу, песню победы.