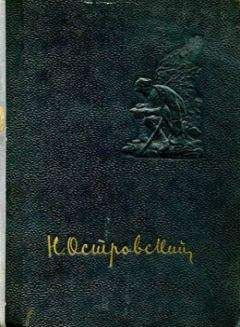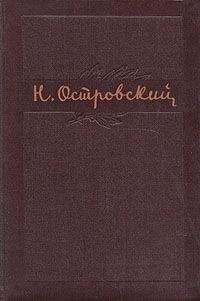Как-то на партбюро окружкома к нему подсел старик подпольщик доктор Бартелик, завокрздравом.
– Ты неважно выглядишь, Корчагин. В лечебной комиссии был? Как твое здоровье? Не был ведь? То-то я не помню, а надо тебя посмотреть, дружок. Приходи в четверг, к вечеру.
Павел в комиссию не пришел – был занят, но Бартелик о нем не забыл и как-то привел к себе. В результате внимательного врачебного осмотра (Бартелик лично принимал в нем участие как невропатолог) было записано:
«Лечкомиссия считает необходимым немедленный отпуск с продолжительным лечением в Крыму и в дальнейшем серьезное лечение, иначе тяжелые последствия неминуемы».
Этому предшествовал длинный перечень болезней по-латыни, из которого Корчагин понял только, что главная беда не в ногах, а в тяжелом поражении центральной нервной системы.
Бартелик провел решение комиссии через партбюро, и никто не возражал против немедленного освобождения Корчагина от работы, но Корчагин сам предложил подождать возвращения из отпуска заворготделом комсомольского окружкома Сбитнева. Корчагин боялся опустошить комитет. Согласились, хотя Бартелик возражал.
Оставалось три недели до первого за всю жизнь отпуска. На столе уже лежала санаторная путевка в Евпаторию.
Корчагин нажимал в эти дни на работу, провел пленум окркомола и, не жалея сил, подгонял концы, чтобы уехать спокойным.
И вот тут, накануне отдыха и встречи с морем, никогда в своей жизни не виданным, случилось это нелепое и отвратительное, чего не ожидал.
Павел пришел в комнату агитпропа партии после занятий и сел у раскрытого окна на подоконнике за книжным шкафом в ожидании совещания агитпропа. Когда ом вошел, в комнате никого не было. Вскоре пришло несколько человек. Павел из-за шкафа не видел их, но голос одного узнал. Это был Файло, завокрнархозом, высокий, с военной выправкой красавец. Про него Павел не раз слыхал как о любителе выпить и поволочиться за каждой смазливой девчонкой.
Файло когда-то партизанил и при удобном случае со смехом рассказывал, как он рубил головы махновцам – по десятку в день. Корчагин его не переваривал. Однажды к Павлу пришла комсомолка и расплакалась, рассказала, как Файло обещал на ней жениться, но, прожив с ней неделю, перестал даже здороваться. В КК Файло отвертелся, доказательств дивчина не имела, но Павел верил ей. Корчагин прислушался. Вошедшие в комнату не подозревали о его присутствии.
– Ну, Файло, как твои делишки? Что нового отчудил?
Это спрашивал Грибов, один из приятелей Файло, человек под стать ему. Грибов почему-то считался пропагандистом, хотя был чрезвычайно неразвит, ограничен и большая тупица, но званием пропагандиста пыжился и при каждом удобном и неудобном случае об этом напоминал.
– Можешь меня поздравить: я вчера обработал Коротаеву. А ты говорил, что ничего не выйдет. Нет, братец, я уж как за какой уцеплюсь, так будьте уверены. – И Файло прибавил похабную фразу.
Корчагин почувствовал нервный озноб – признак острого раздражения. Коротаева была завокрженотделом. Она приехала сюда одновременно с ним, и Павел на совместной работе подружился с этой симпатичной партийкой, отзывчивой и внимательной к каждой женщине и к тем, кто приходил к ней искать защиты или совета. Среди работников комитета Коротаева пользовалась уважением. Она не была замужем, Файло, несомненно, говорил о ней.
– А ты не врешь, Файло? Что-то на нее не похоже…
– Я вру! За кого же ты тогда меня считаешь? Я не таких обламывал. Надо только уметь. Каждая требует особого подхода. Одна сдается на другой день, но это, признаться, барахло. А за другой приходится месяц бегать. Главное – надо узнать психологию. Везде особый подход. Это, братец, целая наука, но я в этом деле профессор. Хо-хо-хо-хо!..
Файло захлебывался от самодовольства. Кучка слушателей подзуживала к рассказу. Компании не терпелось узнать подробности.
Корчагин поднялся, стиснув кулаки, чувствуя, как забилось в тревоге сердце.
– Коротаеву взять так себе, «на бога», нечего было и думать, а упустить ее не хотел, тем более я с Грибовым на дюжину портвейна поспорил. Ну, я и начал диверсию. Зашел раз, другой. Смотрю, косится. Притом тут обо мне трепотня идет, – может, и к ней дошло… Одним словом, с флангов неудача. Я тогда в обход, в обход. Ха-ха!.. Ты понимаешь, говорю, воевал, народу понабил кучу, мотался по свету, горя, дескать, хлебнул немало, а бабы вот путящей себе не нашел, живу, как одинокая собака, – ни ласки, пи привета… И давай и давай накручивать, все в таком же роде. Одним словом, бил на слабые места. Много я с ней повозился. Одно время думал плюнуть к чертовой матери и закончить комедию. Но тут дело в принципе, из-за принципа я от нее не отставал… Наконец добился до ручки. За мое терпение – я вместо бабы на девку наскочил. Ха-ха!.. Эх, умора!
И Файло продолжал гнусный рассказ.
Корчагин плохо помнил, как он очутился около Файло.
– Скотина! – заревел Павел.
– Это я-то скотина или ты, что подслушиваешь чужие разговоры?
Видимо, Павел сказал еще что-то, так как Файло схватил его за грудь:
– Так ты меня оскорблять?!
И ударил Корчагина кулаком. Он был под хмелем.
Корчагин схватил дубовый табурет и одним ударом свалил Файло на землю. В кармане Корчагина не было револьвера, и только это спасло жизнь Файло.
Но нелепое все же случилось: в день, назначенный для отъезда в Крым, Корчагин стоял перед партийным судом.
В городском театре вся парторганизация. Случай в агитпропе взбудоражил всех, и суд развернулся в острую бытовую полемику. Вопросы быта, личных взаимоотношений и партийной этики заслонили разбираемое дело. Оно стало сигналом. Файло на суде вел себя вызывающе, нагло улыбался, говорил, что дело его разберет народный суд и Корчагин за его разбитую голову получит принудительные работы. Отвечать на вопросы категорически отказался.
– Что, язычки хотите почесать по моему адресу? Извиняюсь. Можете мне припаивать что угодно, а то, что на меня тут бабье рассвирепело, так это потому, что на них не обращаю внимания: А дело выеденного яйца не стоит. Будь это в восемнадцатом году, я с этим психом Корчагиным разделался бы по-своему. А сейчас здесь и без меня обойдется. – И ушел.
Когда председательствующий предложил Корчагину рассказать о столкновении, Павел заговорил спокойно, но чувствовалось, что он с трудом сдерживает себя.
– Все, о чем здесь идет речь, случилось потому, что я не сдержался. Давно уже прошло то время, когда я кулаками работал больше, чем головой. Произошла авария, и, прежде чем я это понял, Файло получил по черепу. За несколько последних лет у меня это единственный случай партизанства, и я его осуждаю, хотя затрещина но существу правильна. Файло – отвратительное явление в нашем коммунистическом быту. Я не могу понять, никогда не примирюсь с тем, что революционер-коммунист может быть в то же время и похабнейшей скотиной и негодяем. Этот случай заставил нас заговорить о быте, это единственно положительное во всем деле.
Подавляющим большинством партийный коллектив голосовал за исключение из партии Файло. Грибову был вынесен строгий выговор с предупреждением за ложные показания. Остальные участники разговора признались. Им было вынесено порицание.
Бартелик рассказал о состоянии нервов Павла. Собрание бурно протестовало, когда партследователь предложил объявить Корчагину выговор. Следователь снял свое предложение. Павел был оправдан.
Через несколько дней поезд мчал Корчагина в Харьков. Окружком партии согласился на его настойчивую просьбу отпустить его в распоряжение Цека комсомола Украины. Ему дали неплохую характеристику, и он уехал. Одним из секретарей ЦК комсомола был Аким. К нему зашел Павел и рассказал обо всем.
В характеристике за словами «беззаветно предан партии» Аким прочел: «Обладает партийной выдержкой, лишь в исключительно редких случаях вспыльчив до потери самообладания. Виной этому – тяжелое поражение нервной системы».
– Все-таки записали тебе, Павлуша, этот факт на хорошем документе. Ты не огорчайся, бывают иногда такие вещи даже с крепкими людьми. Поезжай на юг, набирайся силенок. Вернешься, тогда поговорим, где будешь работать.
И Аким крепко пожал ему руку.
Санаторий ЦК – «Коммунар». Клумбы роз, искристый перелив фонтана, обвитые виноградом корпуса в саду. Белые кители и купальные костюмы отдыхающих. Молодая женщина-врач записывает фамилию, имя. Просторная комната в угловом корпусе, ослепительная белизна постели, чистота и ничем не нарушаемая тишина. Переодетый, освеженный принятой ванной, Корчагин устремился к морю.
Насколько мог окинуть глаз – величественное спокойствие сине-черного, как полированный мрамор, морского простора. Где-то в далекой голубой дымке терялись его границы; расплавленное солнце отражалось на его поверхности пожаром бликов. Вдали сквозь утренний туман вырисовывались массивные глыбы горного хребта. Грудь глубоко вдыхала живительную свежесть морского бриза, а глаза не могли оторваться от великого спокойствия синевы.