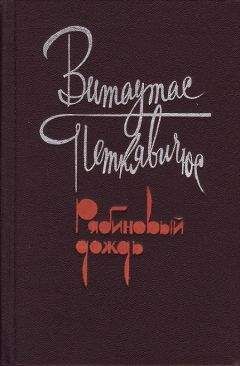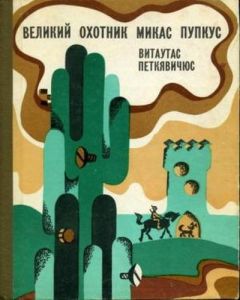— Поехали. Нельзя еще раз обманывать добрых приятелей, — Йонасу хотелось как следует попариться и отдохнуть.
— Что ж, поехали. Только ничего не бери, попаримся в баньке и назад… По пути навестим Саулюса.
— Да я уже все сложил.
— А выбросить не можешь?
— Могу, но…
— Но подергаем судьбу за хвост, да? Если она, бестия, этого хочет, мы не испугаемся, кто — кого… Ты это хотел сказать?
— Не совсем… Вам надо наконец закончить все по-мужски.
— Со Стасисом?
— Нет, с Бируте.
— А еще с кем?
— Мне кажется, если закончить с ней, все остальное само собой изменится, и в лучшую сторону.
— Прекрасно, Йонас, мы так и поступим, как ты говоришь. Согласно теории игр, бывают и более невероятные шансы на выигрыш. Заводи кобылу, поехали!.. Помнишь, кто так говорил? «Волга-Волга»…
— Теперь такие комедии не ставят.
— А какие ставят?
— Идейные.
— Хорошо сказано: и смех теперь должен быть идейным, потому что, нахмурившись, жить стало невозможно. А ты не подумал, почему сегодня серьезных людей больше, чем веселых?
— Хмурого труднее обозвать бездельником, чем веселого.
— Если так — поехали.
Прилетит этот хваленый Дмитрий или не прилетит, думал по дороге Моцкус, но жить все равно надо. И Саулюс должен встать на ноги. А потом — все силы на симпозиум… Он вдруг рассмеялся, вспомнив свой разговор с Бируте: мол, меня за границей признали, я ученый!.. А ей-то какая польза, что меня ценят люди, если я ее не оценил? Письмишки, открыточки, посылочки… Нейлоновая шубка… Он снова рассмеялся.
— Йонас, спой ты мне эту песню, которую под градусами затягиваешь.
— Да неудобно.
— Я приказываю.
— Такого вы приказать не можете.
Моцкус наклонился, включил магнитофон, перемотал ленту немного назад и переключил на воспроизведение. Веселый голос Йонаса торжественно сообщил:
«Только на природе эта проклятая хорошо проходит, — и через некоторое время затянул:
Зачем же мне твоя любовь
И писем ожиданье,
Когда я знаю, что с тобой
Не ждет меня свиданье?!»
Шеф еще и еще раз прокрутил это место. Йонасу стало неловко:
— Свинья этот Саулюс.
— Напрасно ты его ругаешь. Премию можно давать за такие простые и выразительные слова. Ведь это логика жизни, вся суть любви и уважения — быть вместе. Легко, брат, любить в письмах.
— А в прошлый раз вы говорили, что это глупая и грубая песня.
— Возможно, Йонялис, возможно… Не отрекаюсь! Искусство — дитя настроения и чувства. Сегодня мне эта песня чертовски подходит. А кроме того, в жизни все необычайно условно. Вот для тебя я — ученый, директор, шеф, а для матери — только заблудшее дитя, не понимающее ее. Она и теперь жалеет меня и даже поучает: дескать, сын, приходит время, когда любознательность превращается в грех. А я ей: мама, ты права. Дьявол всегда стоял на стороне ищущих, а бог поддерживал тех, кто это запрещает. Поэтому нам и пришлось от него отказаться. Тогда она сердится, говорит: я тебе есть не дам… А на самом деле — все новые истины рождаются как ересь, а умирают как старые и отжившие свой век суеверия.
Моцкус рассмеялся, вспомнив, как в тот злополучный день аварии, торопясь в Вильнюс, он вдруг вздумал соблюсти некоторые необходимые формальности и по пути заехал в автоинспекцию. Здесь его никто не знал, никто с ним не раскланивался, он никого не мог похлопать по плечу, пообещать какие-нибудь позарез нужные запчасти для машины. Дежурный оглядел его с головы до ног и равнодушно спросил, не прекращая что-то писать:
— Вам чего?
— Я попал в аварию, точнее — ее виновник.
— Ваши права?
— Я не взял их с собой.
Дежурному стало интересно. Он посмотрел на гостя, как на первобытного человека, подмигнул обступившим его активистам:
— Когда это произошло?
— Утром.
— И только теперь сообщаете?
— Раньше не было времени… Кроме того, требовалось оказать помощь пострадавшему, а теперь я на одолженной машине тороплюсь к своему хорошему приятелю — нейрохирургу.
Лейтенант разглядывал Моцкуса, словно перед ним был редкий, но все еще встречающийся музейный экспонат. И наконец взорвался:
— Вот побегаете за мной годика два, не только время найдется, но и совесть прорежется.
— Не разговаривайте со мной как с преступником, — запротестовал Моцкус.
— А кто же вы такой? Утром сделали аварию, а сейчас который час? Наверно, машину оплакивали?
— Машина — груда металлолома, уважаемый…
— Я для вас не уважаемый, а дежурный!
— Я вас не знаю.
— Посмотри на погоны!
— Так вот, уважаемый лейтенант, — Моцкус все равно не повысил голоса. — Машина — груда железа. Не надо этим меня оскорблять. Возьмите у меня кровь, отправьте к врачу, исследуйте…
— Теперь в этом уже нет смысла. Садитесь и пишите объяснительную.
— Но я очень тороплюсь.
— Никуда вы не уйдете, пока не сделаете то, чего я прошу.
Моцкус долго потел, сочиняя по выданному образцу этот важный документ, потом отдал бумагу дежурному. Тот, пробежав глазами объяснительную, окончательно рассердился:
— Вы издеваетесь надо мной или хотите угодить в медвытрезвитель?
— Как это — издеваюсь? — покраснел и Моцкус. — Я написал все, как было.
— А где произошла авария?
— В Пеледжяй.
— Вот там и объясняйтесь!
Моцкус больше не интересовал лейтенанта. Он занимался своим делом, разговаривал с загорелыми, пропахшими бензином товарищами, ругался на пьяных, силком вытащенных из кабины шоферов и, заметив, что Викторас все еще здесь, прикрикнул и на него:
— Не топчись на месте, яму выстоишь!
После такого объяснения Моцкус сам нашел больницу, взял справку и поехал дальше. Эта встреча протрезвила его и заставила посмотреть на себя со стороны, поэтому теперь, заметив милиционера, останавливающего их, сказал Йонасу:
— Только не связывайся с ним.
Но Милюкасу был нужен сам Моцкус.
— Вы, уважаемый профессор, будто молодой месяц.
Увидев старого приятеля, Викторас хотел дернуть его за руку, обнять, но только вздрогнул, протянул ладонь и, недовольный, начал ворчать:
— Ты что, Костас, мое имя забыл?
— Не забыл, товарищ Викторас, но дело важное.
— А я только сейчас думал, что не может быть ничего важнее порядочности. Опять какую-нибудь букву закона откопал? Не бойся, я все справки собрал и права уже взял.
— Напрасно вы, Викторас, иронизируете. На сей раз я хочу поговорить по душам. И чтобы не было никаких сомнений, сразу предупреждаю: я и тогда не хотел навредить вам, я искренне заблуждался, полагая, что вы из тех людей, которые ради карьеры могут пойти по головам других.
— Не перегибай, — рассердился Моцкус, — но если по душам, то по душам. — Он не спеша вылез из машины, потянулся, немного прошелся по ровному шоссе. — Места-то какие красивые!..
— Красивые, — Милюкасу некогда было любоваться природой.
— А если откровенно, — признался Моцкус, — то и я не раз, обозленный на тебя, болтал где надо и где не надо.
— Эх, да что тут вспоминать… — вздохнул Костас. — Если бы наши недоброжелатели знали, что мы о них думаем, они бы наверняка добавили еще несколько ласковых слов. Ведь так?
— Не возражаю, но если бы ты знал, как мне недоставало тебя с твоим педантизмом и дотошностью, ты бы этого не говорил. После отъезда из Пеледжяй мне многие годы не хватало тебя. Вместе мы бы гору свернули, а теперь?.. Теперь я сижу на вершине этой самой горы, ты — внизу, а сворачивать ее, наверно, будут другие, так сказать, сделают чего мы не успели. Но ладно, скажи, как живешь?
— Да так себе… Я остановил тебя, чтоб предупредить: ваша машина перевернулась потому, что этот вонючка Жолинас открутил гайку, придерживающую рулевую тягу.
— Не может быть! — Викторас сказал эти слова автоматически, будто обвинение было предъявлено ему самому, но, вспомнив, о ком говорит Костас, тут же почувствовал, что все может быть — и еще преступнее, наглее, страшнее. Но сознание его, нормального человека, неспособного на подлость, отказывалось верить в это. — А чем докажешь?
Милюкас рассказал о своих открытиях и догадках и показал увеличенные фотографии ключа и гайки, сделанные в отделе криминалистики.
— Ясно?
— Не совсем.
— Боек винтовки еще мизернее, но на патроне оставляет только ему присущий след.
— Теперь понимаю, — ответил Моцкус и почувствовал, что ему плохо. Покачнувшись, он прислонился к Костасу, постоял, крепко зажмурившись, и постепенно в нем снова проснулся лейтенант Моцкус.
— Хорошо, но почему ты сообщаешь мне эту горькую весть как-то странно — на ухо? — Хоть ему и очень этого не хотелось, старая обида полезла наружу.
Костас мужественно проглотил и это оскорбление — автоинспекторам не привыкать — и даже пошутил: