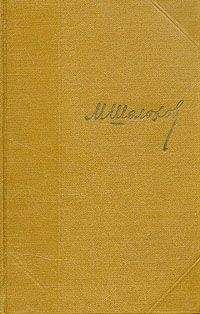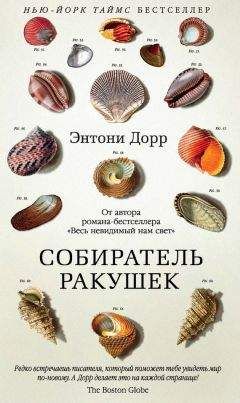— Ну как, изучаете войну? — косо глянув на шагавшего чуть позади Бунчука, спросил Листницкий.
— Да… пожалуй, изучаю.
— Что вы думаете делать после войны? — почему-то спросил Листницкий, глядя на волосатые руки вольноопределяющегося.
— Кто-то посеянное будет собирать, а я… погляжу, — Бунчук сощурил глаза.
— Как вас понять?
— Знаете, сотник (еще пронзительнее сощурился тот), поговорку: «Сеющий ветер пожнет бурю»? Так вот.
— А вы бы без аллегорий, яснее.
— И так ясно. Прощайте, сотник, мне налево.
Бунчук приложил волосатые пальцы к козырьку казачьей фуражки, свернул влево.
Пожимая плечами, сотник долго провожал его взглядом.
«Что он, оригинальничает или просто человек с чудинкой?» — раздраженно думал Листницкий, шагая в опрятную землянку командира сотни.
XVI
Вместе со второй очередью ушла и третья. Станицы, хутора на Дону обезлюдели, будто на покос, на страду вышла вся Донщина.
На границах горькая разгоралась в тот год страда: лапала смерть работников, и не одна уж простоволосая казачка отпрощалась, отголосила по мертвому: «И, родимый ты мо-о-о-ой!.. И на кого ж ты меня покинул?..»
Ложились родимые головами на все четыре стороны, лили рудую казачью кровь и, мертвоглазые, беспробудные, истлевали под артиллерийскую панихиду в Австрии, в Польше, в Пруссии… Знать, не доносил восточный ветер до них плача жен и матерей.
Цвет казачий покинул курени и гибнул там в смерти, во вшах, в ужасе.
В погожий сентябрьский день летала над хутором Татарским молочно-радужная паутина, тонкая такая, хлопчатая. По-вдовьему усмехалось обескровленное солнце, строгая девственная синева неба была отталкивающе чиста, горделива. За Доном, тронутый желтизной, горюнился лес, блекло отсвечивал тополь, дуб ронял редкие узорчато-резные листья, лишь ольха крикливо зеленела, радовала живучестью своей стремительный сорочий глаз.
В этот день Пантелей Прокофьевич Мелехов получил письмо из действующей армии. Письмо принесла с почты Дуняшка. Почтмейстер, вручая его, кланялся, тряс плешиной, униженно разводил руками:
— Вы, ради бога, простите меня, письмо-то я распечатал. Так и скажите папаше: мол, Фирс Сидорович письмо, так и так, мол, вскрыл. Очень, мол, ему было интересно про войну узнать, как там и что… Уж вы простите и папаше Пантелею Прокофьевичу так и доложите.
Против обыкновения он был растерян и вышел проводить Дуняшку, не замечая того, что нос его измазан чернилами.
— Уж вы там того, не взыщите, упаси бог… я ведь по знакомству… — несвязно бормотал он вслед Дуняшке, кланялся, и в этом почувствовала она что-то предостерегающее, как толчок.
Домой вернулась взволнованная, долго не могла достать из-за пазухи письмо.
— Скорей, ты!.. — прикрикнул Пантелей Прокофьевич, гладя дрожащую бороду.
Дуняшка, доставая конверт, торопливо говорила:
— Почтмейстер сказал, что прочитал письмо из антиресу и чтоб вы, батя, на него не обижались.
— Черт с ним! От Гришки? — напряженно спросил старик, дыша с сапом в лицо Дуняшке. — От Григория, никак? От Петра, что ли?
— Батяня, нет… рука чужая на письме.
— Читай ты, не томи! — закричала Ильинична, тяжело подкатываясь к лавке (у нее пухли ноги, ходила она, редко их переставляя, ровно на колесиках катилась).
Запыхавшись, прибежала с надворья Наталья, стала у печи, сдавив руками грудь, скособочив изуродованную шрамом шею. На губах ее трепетно, солнечным зайчиком дрожала улыбка, она ждала поклона от Гриши и хоть легкого, хоть вскользь, упоминания о ней — в награду за ее собачью привязанность, за верность.
— Дарья-то где? — шепнула старуха.
— Цыцьте! — зыкнул Пантелей Прокофьевич (бешенство округлило его глаза) и — к Дуняшке: — Читай!
— «Уведомляю Вас…» — начала Дуняшка и, сползая с лавки, дрожа, крикнула дурным голосом: — Батя! Батянюшка!.. Ой, ма-а-ама! Гриша наш!.. Ох! Ох! Гришу… убили!
Путаясь в листьях чахлой герани, билась на окне полосатая оса, жужжала. На дворе мирно квохтала курица, через распахнутую дверь слышался далекий детский, бубенчиковый смех.
На лице Натальи комкалась судорога, а углы губ еще не успели стереть недавней трепетной улыбки.
Поднимаясь, паралично дергая головой, с исступленным недоумением смотрел Пантелей Прокофьевич на ползавшую в корчах Дуняшку.
Уведомляю Вас, что сын Ваш, казак 12-го Донского казачьего полка, Григорий Пантелеевич Мелехов в ночь на 16 сентября с./г. убит в бою под городом Каменка-Струмилово. Сын Ваш пал смертью храбрых, пусть это послужит Вам утешением в невознаградимой потере. Оставшееся имущество будет передано родному брату его Петру Мелехову. Конь остался при полке.
Командир четвертой сотни подъесаул Полковников
Действующая армия. 18 сентября 1914 г.
После получения известия о смерти Григория Пантелей Прокофьевич опустился как-то сразу. Он старел день ото дня на глазах у близких. Тяжелая развязка настигала его неотвратимо; слабела память, и мутился рассудок. Он ходил по куреню сутулый, чугунно-почерневший; горячечный масленый блеск глаз выдавал его душевную сумятицу.
Письмо от командира сотни сам он положил под божницу и несколько раз за день выходил в сенцы, манил Дуняшку пальцем.
— Выдь-ка ко мне.
Та выходила.
— Принеси письмо об Григорию. Читай! — приказывал он, опасливо поглядывая на дверь горницы, за которой томилась в неумолчной тоске Ильинична. — Ты потише читай, вроде как про себя, — он хитро подмигивал, весь корежась, указывая глазами на дверь, — потише читай, а то мать… беда…
Дуняшка, глотая слезы, прочитывала первую фразу, и Пантелей Прокофьевич, обычно сидевший на корточках, поднимал торчмя широкую, что лошадиное копыто, черную ладонь.
— Стой! Дальше знаю… Отнеси, положь под божничку… Ты потише, а то мать наша… — опять он отвратительно подмигивал и весь кривился, как древесная кора, сжираемая огнем.
Седел он круговинами, ослепительно белая седина быстро испятнила голову, нитями разметалась в бороде. Он стал прожорлив, ел много и неряшливо.
На девятый день после панихиды пригласили попа Виссариона и родных на поминки по убиенном воине Григории.
Пантелей Прокофьевич ел быстро и жадно, на бороде его звеньями лежала лапша. Ильинична, со страхом приглядывавшаяся к нему в эти последние дни, заплакала:
— Отец! Чтой-то ты?..
— А чего? — засуетился старик, поднимая от обливной чашки мутные глаза.
Ильинична махнула рукой и отвернулась, комкая у глаз расшитый утиральник.
— Едите вы, батенька, будто три дня не емши! — со злобой сказала Дарья и блеснула глазами.
— Ем? А ну, так… так… так… я не буду… — смутился Пантелей Прокофьевич. Он растерянно оглядел сидевших за столом и, пожевав губами, замолк, на вопросы не отвечал, хмурился.
— Мужайся, Прокофич. Чтой-то ты так уж отчаялся? — после поминок бодрил его поп Виссарион. — Смерть его святая, не гневи бога, старик. Сын за царя и отечество терновый венец принял, а ты… Грех, Пантелей Прокофич, грех тебе… Бог не простит!
— Я и то, батюшка… я и то мужаюсь. «Смертью храбрых убитый», командир-то пишет.
Поцеловав руку священника, старик припал к дверному косяку и в первый раз за все время после известия о смерти сына заплакал, бурно содрогаясь.
С этого дня переломил себя и духовно оправился.
Каждый по-своему зализывал рану.
Наталья, услышав от Дуняшки о смерти Григория, выбежала на баз. «Руки наложу! Все теперь мне! Скорей!» — гнала ее, огнем хлестала мысль. Наталья билась в руках у Дарьи и с радостным облегчением принимала беспамятство, лишь бы отдалить тот момент, когда вернется сознание и властно напомнит о случившемся. Неделю провела в дурном забытьи и вернулась в мир реального иная, притихшая, изглоданная черной немочью… Незримый покойник ютился в мелеховском курене, и живые пили его васильковый трупный запах.
XVII
Мелеховы на двенадцатый день после известия о смерти Григория получили от Петра два письма сразу. Дуняшка еще на почте прочитала их и — то неслась к дому, как былка, захваченная вихрем, то, качаясь, прислонялась к плетням. Немало переполоху наделала она по хутору и неописуемое волнение внесла в дом.
— Живой Гриша!.. Живой наш родненький!.. — рыдающим голосом вопила она еще издали. — Петро пишет!.. Раненый Гриша, а не убитый!.. Живой, живой!..
«Здравствуйте, дорогие родители, — писал Петро в письме, помеченном 20 сентября. — Сообщаю вам, что наш Гришка чудок не отдал богу душу, а сейчас, слава богу, находится живой и здоровый, чего и вам мы желаем от господа-бога, здравия и благополучия. Под городом Каменка-Струмиловом был ихний полк в бою, и в атаке видали казаки из его взвода, что срубил его палашом венгерский гусар и Григорий упал с коня, а дальше ничего не было нам известно, и, как я ни пытал у них, ничего не могли они рассказать. После уж узнал я от Мишки Кошевого, — приезжал Мишка в наш полк для связи, — что пролежал Григорий до ночи, а ночью очухался и пополоз. И пополоз он, по звездам дорогу означая, и напал на раненого нашего офицера. Был этот офицер раненый — подполковник драгуновского полка, и ранило его снарядом в живот и в ноги. Григорий взял его и тянул волоком на себе шесть верст. А за это вышла ему награда — георгиевский крест, и в младшие урядники произвели Гришку. Вот так! Ранение у Гришки пустяковое, скобленул его неприятель палашом в голову, кожу стесал; а упал он с коня и омороком его вдарило. Зараз он в строю — говорил Мишка. Вы извиняйте, что так написано. Пишу на седле, и дюже качает».