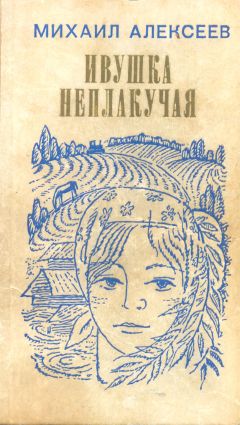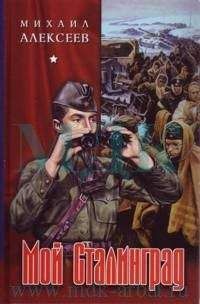Ознакомительная версия.
Может быть, дядя Коля и в самом деле остепенился? Во всяком случае, сейчас он был серьезен. Темные редкие волосы причесаны, даже неровный проборчик побежал от левого виска к затылку. Серега и Гриша глядели на него такого вот и чувствовали, что им не хватает чего-то в дяде Коле. Странное дело: человек трезв, разумен, говорит толковые слова, а им чего-то не хватает в нем. Чего же? Неужели его прежних пьяных причуд?
— Дядь Коля, я вот вспомнил про ваш «деньгодельный» станок. Для чего вы это все придумали? — спросил вдруг Серега.
Дядя Коля долго молчал. Потом поглядел на Серегу, сказал с незлобивым укором:
— Глупый ты еще, Серега, хоть и студент. Ничегошеньки-то не понимаешь в жизни, — Он опять долго молчал, думал о чем-то. — Как ты считаешь, для чего людям сказки? Молчишь? А еще про «деньгодельный» станок… Эх ты, цыпленок!
И ушел из школы, не прибавив больше пи слова.
Серега и Гриша, притихнув, какое-то время еще стояли посередь зала. Затем, не сговариваясь, тоже направились к двери.
Реку переплыли на крохотной лодчонке, выдолбленной из осинового бревна. Пробрались по узкой, затравеневшей уже тропке к Ерику, старице речки Баланды, где прежде любили сиживать. Угнездились под талами и бездумно, молча стали глядеть на воду. Тут была своя жизнь. И свои свадьбы. Отовсюду к берегу, отталкиваясь задними перепончатыми лапами и вытаращив глазищи, догоняя одна другую, плыли большие зеленые лягушки. В тридцать третьем все они были съедены голодными людьми, а теперь вот опять расплодились. Лягушки еще не отладили своего хора, но у многих на щеках уже вспухали пузыри — свадебные волынки. Звуки лягушечьих голосов, принадлежавшие не то одним женихам, не то одним невестам, поначалу были разрозненны, постепенно к ним подключались другие. И вот то и это соединилось, смешалось, и возник хор — жутко нескладный, не благостный для человечьего уха, но своеобразный, единственный в своем роде, который мог принадлежать только лягушкам, и никому более. Послышался легкий всплеск воды, крики усилились, стали неистовей, яростней. Вода забулькала, вскипела, как во время внезапного ливневого дождя. Началась какая-то непонятная карусель.
— Небось тоже орут «горько!», твари! — сказал Гриша и весь передернулся от охватившего все его существо отвращения. — Пойдем отсюда, Сережа!
Сереге было непонятно это состояние товарища, самому ему нравилась лягушачья возня. Уговорил Гришу остаться. Тот натянул кепку по самые плечи, повернулся на бок.
Вскоре и Гришу и прильнувшего спиною к нему Серегу сморила усталость. Приятели заснули. Перед тем как лечь, пиджак свой Серега повесил на сучок тала. И проснулся оттого, что ему почудилось, словно кто-то подкрался и тихо снял пиджак. Открыл испуганные глаза и увидал Феню. Она сидела, охватив руками коленки и упершись в них подбородком. Темный Серегин пиджачишко покрывал ее опущенные, странно сузившиеся плечи.
— Спи, спи. Скоро утро, — шепнула она Сереге. — Филипп Иваныч набрался, спит как убнтый. Я потихоньку выскочила из дому, пошла вас искать. Спите, а я посижу возле вас. — Феня поправила на себе пиджак, застегнула на одну пуговицу, кончиком рукава задумчиво коснулась лица.
Лягушачья свадьба, видать, тоже стала выдыхаться к утренней зорьке. Крики сделались реже, и им уже недоставало прежней ярости. Похоже, такие празднества не могут длиться долго. Их не хватило даже на одну эту короткую майскую ночь.
У Леонтия Сидоровича и Аграфены Ивановны Угрюмовых было семеро детей. Феня — старшая среди них, первенец, на долю которого по условиям сельской жизни меньше всего выпадает родительских нежностей. Может, ее и баловали поначалу, но Феня не помнит, когда это было. Она уже с шести лет стала главной помощницей матери. Исключая Гришу, для пятерых своих младших братьев и сестер она была няней, из года в год, по мере того как появлялись на свет дети, они сменяли друг друга на Фениных руках. Когда — от поноса, от скарлатины, от другой ли какой хвори — дети помирали, Аграфена Ивановна, всплакнув чуток, тихо говорила в собственное утешение: «Бог прибрал». Кроме возни с малышами у Фени было еще много-много других разных дел. В семь лет на крепенькие плечи девочки легло коромысло с двумя ведрами — не игрушечными, а настоящими, наполненными, правда, только наполовину. Бывало, несет их от колодца, а сердечко стучит торопливо и испуганно, а спина выгибается, того и гляди переломится. Аграфена Ивановна всплескивает руками, ворчит: «Почесть полные?! Да ты, никак, с ума сошла, Фенюшка!» А сама страсть как довольна, что не придется идти за водой, что появилась наконец подмога. Отчетливо различив радость в голосе матери, Феня бежит к зыбке, выхватывает оттуда ребенка, убирает из-под него мокрое, закутывает красное тельце в сухую, только что снятую с печки пеленку, вновь укладывает и начинает петь, подражая матери, своим тоненьким голосочком:
Ах, усни, усни, усни,
Угомон тебя возьми.
Ребенок засыпает, а Феня бежит уже к большому деревянному корыту, над которым клубится вонючий от дешевого стирального мыла пар. На полу возвышается гора рубах, штанов и платьев. Мать успела только простирнуть все это, а Феня должна завершить стирку и развесить шоболы во дворе на плетнях и на веревках. Потом — огороды, прополка и полив картошки, огурцов, свеклы, помидоров; таскает из речки по крутым ступенькам ведро за ведром, пока не упадет в изнеможении, и мать, завидя такое, не скажет под конец: «Иди, доченька, отдохни, золотая моя работница! А я уж сама докончу».
Затем прибавились школьные заботы, очень приятные и радостные для Фени — на добрых полдпя она уходила от пеленок, от коромысла, от белья, которое никогда не перестираешь. Мать же охала и ахала, сердито поджимала губы; за обедом, за ужином ли непременно заводила одну и ту же песшо. «Сил моих, отец, больше нету, — Аграфена Ивановна обращалась к мужу, а Феня знала, что слова эти предназначены для нее, — руки уж опускаются. Доколи буду все одна да одна чалить по дому? Ведь вас вон какой содом!» А когда Феня собралась однажды в пионерский лагерь, мать решительно взбунтовалась: «Не пущу! Не бывать этому! Ишь ты чего надумала, бездельница! Будешь там хабалить у костра, а огороды все вон цыганка задушила, и осот да молочай вымахали но самую шею. Чего тут я с ними одна-то делать буду!» — и она шлепнула по затылку подвернувшегося случайно Гришу.
От пионерского лагеря пришлось отказаться. По вечерам, встретив Пестравку и загнав ее во двор, Феня потихоньку убегала к речке. Там, за рекой, как раз напротив того места, где она сидела пригорюнившись, горел Голыпой костер, знакомые мальчишки и девчонки прыгали возле него. Смеялись, потом начинали петь. Пели и про картошку объеденье, и про дедушку Ленина, у которого так много внучат, желающих умереть не иначе как в сраженьях, и не где-нибудь, а только на валу мировых баррикад, и про паровоз, у которого остановка лишь в коммуне, и про знамя, которое горит и рдеет нашей кровью, и про многое другое, что будоражило Фенино воображение. Всхлипнув от горькой обиды, она убегала домой, лезла на сеновал, где у нее в летнюю пору была постель; засыпала, однако, не скоро. Но и засыпая, все слышала и слышала далекие голоса: «Сотня юных бойцов из буденновских войск на разведку в поля поскакала». Ей снились те самые юные бойцы, среди них были и она, Феня, и Авдей Максимов, прозванный Белым за светлые свои кудри, — он был рядом и почему-то держал Феню все время за руку, — и Маша Соловьева, Фенина подружка, и какие-то еще девчата и ребята, которых она не знала, но вроде бы где-то уж видела их. Часу в четвертом утра Феню будила мать — надо было проводить в стадо только что подоенную Пестравку. Вставать ох как не хотелось! Но Феня вставала, спускалась по зыбким перекладинам лестницы на землю и, полусонная, шла вслед за коровой, а та и сама хорошо знала, куда надо идти.
После третьего класса школу пришлось покинуть, и навсегда. Настояла Аграфена Ивановна, которой, в самом деле было тяжко с большой семьей.
— Пущай Гриша учится. Ему это нужней, — сказала мать.
Феня умоляюще глядела на отца, думала, что заступится, но Леонтий Сидорович промолчал, крякнул только, шумно высморкался — как делал всегда, когда был чем-нибудь недоволен, — и удалился во двор. Ему было и жаль дочь, но ведь и мать права: не справиться ей с домом. Да и трудодней отца не хватит, чтобы прокормить такую большую семью; Фене, стало быть, тоже надо выходить на артельную работу. Поплакала-поплакала она тайком на повети, а утром положила в платок два вареных яйца, огурец да кусок ржаного хлеба, связала все это в узелок и пошла в поле, на ток, где продолжался запоздалый обмолот колхозной пшеницы. С удивлением и радостью увидала там Машу Соловьеву, которая тоже оставила школу, впрочем, кажется, без особого сожаления: боевая во всех отношениях, Маша была безнадежно глуха к школьным наукам, не давались они ей, и это обнаружилось уже в первом классе, где Маша задержалась на два года. В четвертый класс Машу не перевели, а оставаться еще на одну зиму в третьем она сама не захотела. Получив порку от батьки, веселая и беспечная, отправилась в поле помогать взрослым на току. Там-то они и встретились с Феней, и обеим стало повеселее.
Ознакомительная версия.