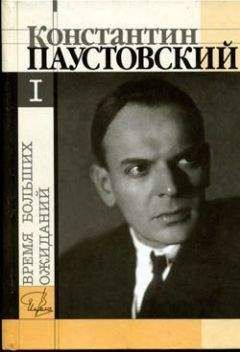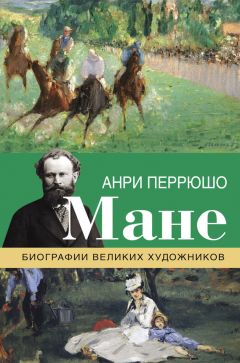В 1940 году двадцатилетней хористкой Рижской оперы Ильза стала женой советского геолога Яна Стырне, приехавшего в Ригу в служебную командировку: в тот памятный год было поветрие выходить за советских. Считалось, что ей повезло: попался надежный, на десяток лет старше ее, уравновешенный человек, обрусевший латгалец, отец которого в числе латышских стрелков одно время состоял в охране Кремля.
Москва пленила Ильзу своими соборами (хотя и чуждой архитектуры), консерваторией, театрами. Однако ни капельки не уменьшились ее тревоги и страхи. Сначала ей было страшно за покинутых в Риге близких, за тяжело протекавшую беременность, за родившуюся в войну крохотульку Дину, за мужа, вечно пропадавшего в командировках. А в войну душа ее замкнулась наглухо. В оккупированной Риге мать, брата и малолетнюю сестренку схватили, найдя в каком-то поколении предков по материнской линии примесь еврейской крови. Правда была это или нет, а миновать печей Освенцима им не удалось. Отец, добродушный синеглазый великан, передавший единственной внучке форму и цвет своих глаз, дожил до возвращения Советской Армии, но так и не увидел Дины: папа с мамой увезли ее из Москвы на Восток. Старик умер в полном одиночестве.
Позади война, Москва, многочисленные переезды, позади уже добрая половина жизни, а треволнений не убавилось. Ей всегда не по себе, когда мужа нет дома. Она надеялась еще вернуться в театр и не хотелось связывать руки новой беременностью и новыми заботами. А когда надежды на возвращение рухнули и она пошла к музучилище учить вокалу других — тревоги за себя перенеслись на учеников и учениц, успехи которых должны были служить оправданием ее собственной неудавшейся карьеры в искусстве.
Но всего тревожнее, конечно, за Дину. Зря не родила еще двух-трех. Избалованное родительским вниманием единственное чадо росло своевольным, капризным, даже, пожалуй, жестоким в своем детском эгоизме, логика которого была до смешного проста: все родители — люди, а людям свойственна жертвенность; стало быть, мои родители должны пожертвовать всем ради меня. С этой позиции Дина и смотрела на все вокруг.
Ильза Генриховна достала круглое зеркало, и на нее глянуло привлекательное, немного удлиненное лицо с темными глазами, тонким, с чуть намеченной горбинкой носом. Рот еще свежий, сочный, даже без помады. Выдает шея. Особенно мешки под подбородком вздуваются, когда приходится показывать в классе новый вокализ или когда поругаешься с мужем.
С тех пор как Дина стала студенткой, а сама Ильза Генриховна педагогом, она и на дочь уже не повышает голоса (не педагогично), а как порой хочется накричать, даже отхлопать по щекам. Во всем, конечно, виновата Москва. О, Ильза хорошо знает, что это такое! Москва есть Москва, и юную провинциалку подстерегают на каждом шагу соблазны и ловушки, только держись. Считается, что девчонку опекает тетя Мирдза, но у нее у самой вагон детей и внуков — до Дины ли ей! Вот и прыгает козочка на просторе. Не нужно было отпускать ее в Москву.
Они почти одновременно появились в кухне — дочь, заперев машину в сарайчике и открыв своим ключом дверь, и мать, почистив в ванной зубы. Тетя Груша, недовольно насупив рябоватое лицо, громко стучала посудой — из-за поздних завтраков приходящая работница ничего не успевала сделать, и потому завтраки эти служили предметом постоянных стычек. Она заявила безапелляционно:
— Поедите сами. Я пошла пылесосить.
Склонность тети Груши к модернизованной речи обычно вызывала у Ильзы Генриховны глухое раздражение, а у Дины снисходительную улыбку, но сегодня они обе молча сели за стол. Дина жадно, не прожевывая, глотала яичницу с колбасой. Она осунулась за одну ночь, глаза ввалились — в них застыло выражение растерянности и испуга.
— Отдохнула, называется, — проворчала мать, окинув дочь осуждающим взглядом. — Как ты будешь учиться?
Дина пропустила замечание мимо ушей и, разливая кофе, вздохнула:
— Врачи говорят: нельзя его домой. Анализы какие-то, особый режим. Скверно это, мама. Ничего ты не знаешь, мама.
— Что у него нашли?
— Врачи пока не знают или не говорят.
Помолчав, мать сказала:
— Неужели не уедешь, пока он будет болеть?
— Не уеду.
— А если болезнь примет затяжную форму?
— Возьму академический отпуск.
Ильза Генриховна всплеснула руками.
— Ну скажи, зачем, зачем тебе он?
Дина отчужденно взглянула на мать и сказала холодно:
— С тех пор как нам с Вадимом пришлось заночевать в тундре, в пургу…
Мать со звоном уронила вилку:
— Дева Мария! И ты рассказываешь об этом родной матери?
Дина подняла с полу вилку.
— Разве лучше скрывать?
— Лучше не лучше, — простонала мать. — Заночевать в пургу! Это экстравагантно даже для тебя… Хорошо еще, что я уговорила тебя уйти с геологического.
— Я ушла сама. И не потому, что ты уговорила, а просто потому, что поняла: химия — мое призвание.
— Самостоятельность, во всем самостоятельность! Во всем ты хочешь оставить последнее слово за собой. И ты думаешь это самое главное? — Ильза Генриховна подняла глаза к потолку, вздохнула и покачала головой. В голосе ее появились мягкие вкрадчивые нотки: — Опомнись, доченька. Я добра тебе хочу. Зачем лишние муки, лишние страхи и терзания? Разве на вашем курсе нет ни одного подходящего студента?
Дина с возрастающим негодованием смотрела на мать. Просто поразительно, как можно не понимать друг друга. И это — родная мать! Чего же ждать от других? Глаза девушки сейчас были холодными, злыми. Она сказала сдержанно:
— К чему эта проповедь, мама. Жизнь без волнений и тревог, ты этого хочешь для меня? — Ей хотелось сказать: «Ты так и прожила всю жизнь», но она вовремя удержалась. — Меня не затянешь в это болото. И как ты до сих пор не можешь понять… Ну пойми же ты наконец, я уже взрослая, имею право сама выбирать…
Ильза Генриховна в отчаянии зажала ладонями уши. Дина взглянула на мать, пожала плечами и ничего больше не сказала, ушла в свою комнату.
Белые стены, белая тумбочка, белая дверь. Из-под свесившейся с кровати белой простыни выглядывает горлышко белого эмалированного судна. Белые марлевые занавески на окне. В него заглядывает неяркий белый зимний день.
Он один в палате. Для второй койки и места-то нет, как в покойницкой, где уже не требуется ни страховать друг друга, особенно по ночам, ни поддерживать компанию. К противоположной стене притулились два низеньких, тоже белых, стеклянных шкафа со связками старых потрепанных историй болезней с эпикризами — никому в сущности не нужных, за исключением, быть может, особенно старательных студентов на стажировке. Многих, о ком там написано, наверно, нет в живых. Неужели обречен и он, Вадим Сырцов?
Скосив глаза на температурный листок у изголовья, испещренный пятью рядами цифр, Вадим догадался, что пятый день лежит в больнице, куда его привезла Дина на своем смешном игрушечном «Запорожце». Коек свободных не оказалось. После долгих препирательств с ординатором приемного покоя его разрешили положить в коридоре терапевтического корпуса. И только глянув через стеклянную дверь на белое, как мел, личико Дины, кивнув подбодряюще, он позволил себе расслабить мышцы и как сноп повалился на койку.
Теперь он в палате. На тумбочке банка с водой и каким-то стройным белым бархатистым цветком. Тишина. Тянет запахом лекарств, застиранного белья и карболки, тем устойчивым застоялым духом нежилого, терпкого, чем пахнут все больницы. А впрочем, здесь очень чисто, главное — тепло. После черной ночи на Мане с ее скользкими камнями и вязким илистым дном, с острыми как пила заберегами и крошевом льда, покрывшего все на свете, — это комнатное, больничное тепло кажется чем-то почти сказочным, добрым. Хочется еще грелок, горячего чаю, толстых шерстяных носков. И все это тут есть.
Хорошо в палате. Это, видно, Игорь постарался (как-никак, друзья детства), чтобы после тайги отдохнулось ему как следует. А чем он болен? Грипп? Пневмония? Менингит? Вадим ощупал лицо, грудь, живот. Нигде не болит, если не считать растянутой пятки, нет и жара. Повернул картонку с температурным листом — выше 38-ми отметки не было.
В чем же дело? Может, его уже выписали домой и только ждут, когда он очнется от затянувшегося, почти летаргического забытья?
Вадим пошевелился, попытался встать. Его кинуло назад в постель, по всему телу прошла острая боль, и он сразу понял, что действительно болен. А все же на Мане тогда ему крепко повезло: человека встретил. Не так часто это бывает в тайге. Да впрочем, не только в тайге. Настоящего человека встретить — это на всю жизнь богатство.
…С тонким звоном шуга сомкнулась над ним, и черная студеная вода потащила его ко дну. Сколько продолжалось оцепенение или это был кратковременный спазм дыхательных путей? Очнувшись, Вадим из последних сил оттолкнулся ногами от вязкого дна. Когда он вынырнул, тюки громоздились один на другой, плот выгнуло, и льдинки стеклянно звякали о высокие борта.