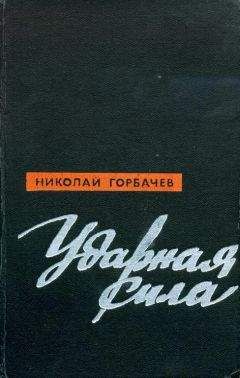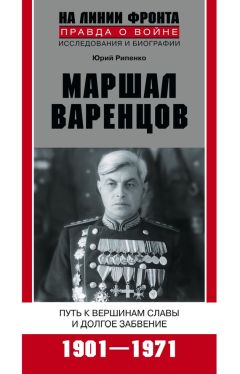Не отдавая отчета, лось вскинулся упругим и могучим телом, и это угрожающее движение возымело силу: на полшаге застыл молодой самец... Но вожак не заметил этого: он не сводил глаз со светлеющих впереди бетонных столбов. Теперь он видел только их да с десяток метров чистого прогала. Прошли всего секунды, пока лось приладился, чуть сдал корпус назад, слегка расставив, спружинив ноги, и... рванулся.
В три маха, не слыша гулких перестуков копыт, достиг чудища и с ходу, не задерживаясь, вложив в рывок всю силу, взметнулся над столбами, перебрасывая через колючую проволоку тело...
Короткий рев огласил притихший лес и заглох в сыром предутреннем воздухе, как в вате. Шарахнулось стадо, ломая кусты, бросилось в синеву. Впереди несся не тот молодой, поджарый самец, а самка о бок с неуклюжим лохматым лосенком.
Позднее вожак нагнал стадо, на легком, красивом маху остановился, горделиво вскинув голову, — стадо покорно сгрудилось; замер, скосив голову, молодой самец, лишь настороженно глядел окольцованный желтым окружьем глаз... Это была победа его, вожака, еще одна победа.
Бодрящая свежесть пробиралась под шинель, знобила тело, хотя Фурашов шел ровным, походным, любимым своим шагом, отпустив «Победу» возле «пасеки»: в восемнадцать ноль-ноль по его просьбе на расширенное партбюро собирался офицерский состав части, — Фурашов как раз дойдет по бетонке до городка. А главное — в движении, на ходу лучше думается, ему же надо окончательно определить линию своего поведения: что скажет офицерам, что отметит из увиденного за эту неделю в части, какие поставит задачи, наметит перспективы...
Сбитой, плотной чередой вставали сейчас дни и события прожитой тут недели, и Фурашов легко, без усилия перебирал их в памяти.
С двумя-тремя офицерами он осматривал хозяйство части. День выдался пасмурный. Белесая, мутная дымка растекалась в воздухе, кутала среди почернелых мокрых стволов сосен домики с островерхими красно-черепичными крышами и низкие, грязные, тоже от дождя, помещения штаба и казарм. С перерывами сыпал холодный и резкий, как град, дождь; он будто возникал над самой головой и хлестал по шинелям, шапкам офицеров. Какая-то покойность, безмятежность была, однако, в этом дожде. А у него, нового командира, не было успокоенности, умиротворенности, наоборот, многое не радовало, раздражало.
На вопросы Фурашова чаще отвечал насупленный коротыш — капитан Карась. Фурашов отметил: капитан суровел, приосанивался для солидности, значительности и, прежде чем ответить Фурашову, зачем-то четко делал шаг вперед, точно выступал из строя. Карась до недавнего времени был, как он сам выразился, «на головном объекте царь и бог и воинский начальник», а официально именовался «начальник части», — досматривал, следил за всеми предварительными работами на объекте. Теперь он назначался командиром второго подразделения, на «луг». Фурашов догадывался, что и строгость капитана и эти нелепые и ненужные шаги вперед в немалой степени объяснялись его изменившимся положением, какому, вероятно, он, капитан Карась, не очень радовался. Фурашов не выдержал, попросил:
— Пожалуйста, Иван Пантелеймонович, мы не в строю... Давайте по-деловому.
— Я-ясно... — протянул Карась. Вышагивать он перестал, но еще больше закостенел в сдержанности.
Обход и объезд расположения части — городка, «луга», «пасеки» — не удовлетворили Фурашова. К концу знакомства он совсем помрачнел: всюду строительный хаос — кучи разбросанного материала, многое начато и не закончено, солдаты как-то неприкаянно, словно бы бесцельно передвигались — не в строю, кучками. Фурашов понимал: слякотная погода, зарядившая среди зимы, усугубляла, картину.
Когда подъезжали к «лугу», машина забуксовала. Солдат шофер Тюлин, с разномастными глазами (один желтоватый, другой коричневый, они щурились у него и будто подмаргивали друг другу), рвал машину взад-вперед, мотор «Победы» сердито взвизгивал. Фурашов, сказав шоферу: «Не надо, мы выйдем», открыл дверцу, ступил в вязкую жижу разбитой дороги. Глинистая, рыжая вода стыла в ямах.
— Дорогу невозможно заровнять, товарищ Карась? Как же возят оборудование, электронные чувствительные блоки?
— Не успеваем, — жестковато ответил капитан, стянув в болезненной суровости брови, над ними побелели бугры.
Фурашов промолчал, пошел к воротам на позицию.
«Вот это и все! Пока ты второй день тут, пока можешь лишь спросить — потребовать ты еще не имеешь права, формально ты пока не командир, сначала приказ о вступлении в должность издай». И в ту же секунду, как бы внезапно высветленное этой мыслью, ему открылось то, что угнетало его в продолжение всего знакомства с частью: вот это ощущение какого-то застоя, царившего здесь.
В тот же день офицеры собрались в кабинете — полупустом, с нелепо большим шкафом (на застеленных газетами полках жиденькая стопка уставов), с громадным сейфом, краска на нем полущилась, покоробилась, как высохшая чешуя. Фурашов заслушивал доклады о состоянии дел — людях, технике, ходе работ, о нуждах и заботах.
Вслушиваясь в слова каждого, он старался вникнуть в суть жизни части: теперь, выходит, это будет сутью его жизни. И действительно, из докладов четче рисовалось многое, шире, яснее становилось то, чем жили люди, но понимал и другое: истинное познание впереди, когда сам влезешь во все, почувствуешь смысл всего до мелочи самой малой, самой неприметной — без этого он себе не представлял будущее. И острота первых впечатлений, ощущение безмолвности, покоя, угнетавшие его, отступали, — он к концу большого разговора повеселел, шутил, хотя не радужной, ой как далеко не радужной, рисовалась картина, но он знал: неясность, неопределенность, а не трудности удручали его. «И все-таки что им сказать? — думал Фурашов. — Что остался недоволен первым знакомством, что многое не понравилось? Но ведь охаять, зачеркнуть то, что сделано до тебя, — это легко, а главное, просто бесчестно. Вот, мол, виноват во всем он, капитан Карась. Все, мол, здесь не мое, чужое, даже этот кабинет, где сидел капитан Карась, — и все не принимаю? Сказать так — значит обидеть всех, не только Карася. Пришел, увидел, осудил... Быть объективным — вот задача. Важно, чтоб люди поняли причины недостатков. Да и тебе самому они тогда станут понятней...»
И Фурашов, выслушав всех собравшихся офицеров, коротко рассказал о себе — только существенное: где воевал, когда окончил академию, как проходила служба в Кара-Суе, потом в Москве. Вглядывался в лица офицеров, тесно заполнивших кабинет, — слушали внимательно, заинтересованно. Когда сказал: «Будем теперь, товарищи, вместе работать», заметил: чуть дрогнуло в усмешке лицо капитана Карася, сидевшего в последнем ряду, у сейфа. Тогда еще не знал Фурашов значения этой усмешки...
Обратился к начальнику штаба Савинову:
— Огласите приказ о вступлении в должность.
Грузноватый подполковник поднялся энергично, легко. И еще припомнилось: на второй день знакомства с частью он предложил обсадить деревьями тот самый открытый участок дороги, где в первый день забуксовала «Победа». Наутро приехал посмотреть, как там шла работа. Карась встретил сурово, тонкие губы сжаты в ниточку, — Фурашов сразу почувствовал: не по нутру ему посадка. Что ж, он, Фурашов, тоже понимал: на стартовой позиции работы хоть отбавляй, а тут отрывались силы. Спросил как можно теплее:
— Как дела, Иван Пантелеймонович?
— Дела... — проговорил Карась, нехотя разжав губы. — Вот делаем! А зачем? Главное-то ведь там! Он махнул рукой в сторону «луга».
— То, что нам кажется второстепенным, может оказаться далеко не таким, — спокойно сказал Фурашов и увидел, как усмешка покривила сухие синеватые губы капитана.
— На ваш век, товарищ подполковник, и без этого можно. Вы же с полгода побудете и уедете. Опять в штаб, в столицу...
Фурашов сначала опешил, не сводил взгляда с капитана. В памяти мучительно пробивалось что-то знакомое, но что? Ах, да, усмешка... Видел ее у Карася там, в кабинете, когда сказал, что служил в центральном аппарате. Значит, тогда он и подумал: мол, как прилетел, так и улетишь, и вот наконец высказался, не утерпел.
— Работу продолжайте. Окончание — к установленному сроку, — сдержанно сказал Фурашов, твердо взглянув на капитана, и под этим взглядом Карась как бы сжался. — А по поводу столицы, Иван Пантелеймонович... не за этим я сюда приехал.
Капитан примолк, недобро, затаенно. «Ну что ж, видно, долго и трудно придется преодолевать сопротивление», — подумал сейчас Фурашов, но вывод не взволновал его. А вот то, что пришло вслед за этим, сбив размышления о Карасе, заставило Фурашова насупиться. Гладышев, Гладышев...
Было это вчера, после развода подразделений по рабочим местам. Когда за угол штаба завернула последняя «коробка» строя, они еще стояли на плацу — Фурашов, начштаба Савинов, замполит подполковник Моренов, всего два дня назад прибывший в часть. Что-то угнетало замполита: тень пробегала по крупному, широкому его лицу, и оно темнело.