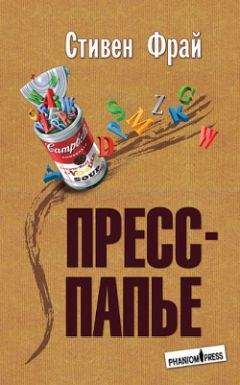«Виллис» дал газу, прыгнул и окончательно завяз. Бойцы спрыгнули с машины, и тут Крист увидел необычайное. На старых шинелях бойцов были новенькие погоны. А у человека, который вылез из машины, на плечах были погоны серебряные… Крист видел погоны впервые. Только на съемках фильмов Крист видел погоны, да еще в кино, на экране, в журналах вроде «Солнца России». Да еще после революции в сумерках провинциального города, где родился Крист, рвали погоны с плеч какого-то пойманного на улице офицера, стоявшего навытяжку перед… Перед кем стоял этот офицер? Этого Крист не помнил. После раннего детства было позднее детство и юность такая, где каждый год по количеству впечатлений, по резкости их, по важности жизненной был таким, в который вместились бы десятки жизней. Крист думал, что в его пути не было офицеров и солдат. Сейчас офицер и солдаты вытаскивали «виллис» из болота. Не было нигде видно кинооператора, не было видно режиссера, приехавшего на Колыму ставить какую-то современную пьесу. Здешние пьесы разыгрывались неизменно с участием самого Криста — до других пьес Кристу не было дела. Было ясно, что приехавший «виллис», солдаты, офицер играют акт, сцену с участием Криста. С погонами — прапорщик. Нет, теперь называется иначе: лейтенант.
«Виллис» проскочил самое ненадежное место — машина подбежала к больнице, к пекарне, где одноногий пекарь, благословлявший судьбу за инвалидность, за одноногость, выскочил, отдавая по-солдатски честь офицеру, вылезавшему из кабины «виллиса». На плечах офицера сверкали красивые серебряные звездочки, две новенькие звездочки. Офицер вылез из «виллиса», одноногий сторож сделал быстрое движение, прохромал, прыгнул куда-то вверх, в сторону. Но офицер смело и небрезгливо удержал одноногого за бушлат.
— Не нужно.
— Гражданин начальник, разрешите…
— Не нужно, я сказал. Заходи в пекарню. Мы сами справимся.
Лейтенант взмахнул руками, указывая вправо и влево, и трое солдат побежали, окружая внезапно обезлюдевший безмолвный большой поселок. Шофер вылез из машины. А лейтенант с четвертым солдатом бросился на крыльцо хирургического отделения.
С горки, стуча каблуками солдатских сапог, спускалась женщина-главврач, предупредить которую опоздал одноногий сторож.
Двадцатилетний начальник отдельного лагерного пункта, бывший фронтовик, но избавленный от фронта ущемленной грыжей, а может быть, это только так говорили, вернее всего, была не грыжа, а блат — высокая рука, переставившая лейтенанта с производством в следующий чин от танков Гудериана на Колыму.
Прииски просили людей, людей. Хищническая, старательская добыча золота, запрещенная раньше, теперь поощрялась правительством. Лейтенант Соловьев был послан доказать свое умение, понимание, знание — и свое право.
Начальники лагерных учреждений не занимаются лично отправкой этапов, не лезут в истории болезни, не осматривают зубы людей и лошадей, не ощупывают мускулы рабов.
В лагере все это делают врачи.
Списочный состав заключенных — рабочей силы приисков — таял с каждым летним днем, с каждой колымской ночью выход на работу становился все меньше и меньше. Люди из золотых забоев шли «под сопку», в больницу.
Управление района выжало давно все, что могло, сократило все, что можно, кроме, разумеется, личных денщиков, или дневальных, как их зовут по-колымски, кроме дневальных высшего начальства, кроме личных поваров, личной прислуги из заключенных. Все было вычищено повсюду.
Только одна подчиненная молодому начальнику часть не давала должной отдачи — больница! Тут-то и скрыты резервы. Преступники врачи скрывают симулянтов.
Мы, резервы, знали, зачем приехал в больницу начальник, зачем приблизился его «виллис» к воротам больницы. Впрочем, ворот и оград в больнице не было. Районная больница стояла среди таежного болота на пригорке, два шага в сторону — брусника, бурундуки, белки. Больница называлась «Беличьей», хотя ни одной белки там давно не было. В горном распадке под пышным багровым мхом бежал холодный ледяной ручей. Там, где ручей впадает в речку, и стоит больница. И ручей и речка безымянны.
Топографию местности лейтенант Соловьев знал, когда планировал свою операцию. Оцепить такую больницу в таежном болоте и роты солдат не хватило бы. Диспозиция была иная. Военные знания лейтенанта не давали ему покоя, искали выхода в его беспроигрышной смертной игре, в сражении с бесправным арестантским миром.
Охотничья эта игра волновала кровь Соловьева, охота за людьми, охота за рабами. Лейтенант не искал литературных сравнений — это была военная игра, операция, давно им задуманная, день «Д».
Из больницы конвоиры выводили людей, добычу Соловьева. Всех одетых, всех, кого начальник застал на ногах, а не на койке, и снятых с койки, загар которых вызвал подозрение у Соловьева, вели к складу, где был поставлен «виллис». Шофер вынул пистолет.
— Ты кто?
— Врач.
— К складу! Там разберем.
— Ты кто?
— Фельдшер.
— К складу!
— Ты кто?
— Ночной санитар.
— К складу.
Лейтенант Соловьев лично проводил операцию пополнения рабсилы на золотых приисках.
Самолично начальник осмотрел все шкафы, все чердаки, все подполья, где, по его мнению, могли скрываться те, кто прятался от металла, от «первого металла».
Одноногий сторож был поставлен тоже к складу — там разберем.
Четыре женщины, медицинские сестры, были доставлены к складу. Там разберем.
Восемьдесят три человека тесно стояли около склада.
Лейтенант произнес краткую речь:
— Я покажу, как собирать этапы. Разгромим ваше гнездо. Бумаги!
Шофер достал из планшета начальника несколько листков бумаги.
— Врачи, выходи!
Вышло три врача — больше в больнице и не было.
Фельдшеров вышло двое — остальные четверо остались в строю. Соловьев держал в руках штатную ведомость больницы.
— Женщины, выходите; остальные — ждать!
Из больничной конторы Соловьев позвонил по телефону. Еще вчера заказанные им два грузовика вышли в больницу.
Соловьев взял химический карандаш, бумагу.
— Подходи записываться. Без статьи и срока. Только фамилия — там разберут. Ну!
И начальник собственной рукой составил список этапа — этапа на золото, на смерть.
— Фамилия?
— Я болен.
— Чем он болен?
— Полиартрит, — сказал главврач.
— Ну, я таких слов не знаю. Здоровый лоб. На прииск.
Главврач не стала спорить.
Крист стоял в толпе, и знакомая злоба стучала в его виски. Крист уже знал, что надо делать.
Крист стоял и думал спокойно. Вот как тебе мало доверяют, начальник, что ты лично обыскиваешь больничные чердаки, заглядываешь своими светлыми очами под каждую больничную койку. Ты ведь мог только распорядиться, и всех прислали бы и без этого спектакля. Если ты начальник, хозяин лагерной службы на приисках, собственной рукой пишешь списки, ловишь собственной рукой… Так я тебе покажу, как надо бегать. Пусть дадут хоть минуту на сборы…
— Пять минут на сборы! Быстро!
Вот этих-то слов Крист и ждал. И, войдя в барак, где жил, Крист не взял вещей, взял только телогрейку, шапку-ушанку, кусок хлеба, спички, махорку, газету, вывалил в карман все свои заначки, сунул в карман телогрейки пустую консервную банку, и вышел, но не к складу, а в барак, в тайгу, легко обойдя часового, того, для которого операция, охота была уже кончена.
Крист целый час шел вверх по ручью, пока не выбрал надежное место, лег на сухой мох и стал ждать.
Что тут за расчет был? А расчет был такой. Если это простая облава — кого схватят на улице, того и сунут в машину, привезут на прииск, — то из-за одного человека машину держать до ночи не будут. Но если это правильная охота, то за Кристом пришлют вечером, даже в больницу не впустят и постараются достать Криста, вырыть из-под земли и дослать.
Срок за такую отлучку не дадут. Если пуля не попала, пока Крист уходил, — а в Криста и не стреляли, — то Крист снова будет санитаром в больнице. А если надо отправить именно Криста, это сделает главврач и без лейтенанта Соловьева.
Крист зачерпнул воды, напился, покурил в рукав, полежал и, когда солнце стало садиться, пошел вниз по распадку к больнице.
На мостках Крист встретил главврача. Главврач улыбнулась, и Крист понял, что он будет жить.
Мертвая, опустевшая больница оживала. Новые больные одевались в старые халаты и назначались санитарами, начиная, быть может, путь к спасению. Врачи и фельдшера раздавали лекарство, мерили температуру, считали пульс тяжелобольных.
1965
Мир бараков был сдавлен тесным горным ущельем. Ограничен небом и камнем. Прошлое здесь являлось из-за стены, двери, окна; внутри никто ничего не вспоминал. Внутри был мир настоящего, мир будничных мелочей, который даже суетным нельзя было назвать, ибо этот мир зависел от чьей-то чужой, не нашей воли.