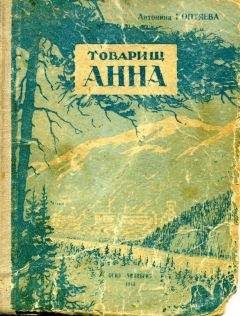Маринка едва взглянула на него.
— Пусть прыгает. Попадётся такому жуку... Тот зубищами раз — и нет ноги у воробья! Р-раз — и другая напополам. — Маринка даже забеспокоилась и посмотрела внимательнее на подскочившего совсем близко воробья.
Он, как ни в чём не бывало, подёргивал хвостиком, вертел тёмненькой со светлым клювом головкой. Маринка махнула на него рукой, но он только встопорщился и чирикнул что-то на своём воробьином языке. Тогда она рассердилась, вскочила и в это же время услыхала со стороны дороги лошадиный топот, стук колёс и как будто голос матери...
Мать ехала верхом рядом с тележкой-таратайкой, из которой выглядывала пребольшая собачья голова. Но собака была не страшная. Присмотревшись получше, Маринка нашла даже, что «лицо» у неё доброе. И таратайка и лошадь нездешние, и рядом с нездешним конюхом сидела совсем уже нездешняя женщина в тонком синем плаще, повязанная пёстрым шарфом. Концы шарфа закрывали ей лоб и щёки, а из-под них весело поглядывали яркие голубые глаза.
— Какая прелесть! — сказала Валентина, глядя на подбегавшую Маринку, но Анна вздохнула, сразу заметив незастёгнутые туфли и грязное платье дочери, вздохнула и тут же порадовалась на неё.
— Это моя дочь, — сказала она, сдержала Хунхуза и приняла из рук конюха тянувшуюся к ней, застенчиво надутую при посторонних Маринку.
Так они подъехали к дому. Маринка крепко держалась обеими руками за луку седла и с высоты своих четырёх с половиной лет оценивала приезжих.
— Нравится тебе Валентина Ивановна? — спросила её Анна, заметив, как внимательно смотрела девочка на Валентину, когда они трое, вместе с новой красивой собакой поднялись на крыльцо.
— Не особенно, — сказала Маринка, краснея.
Покраснела и Валентина, а Анна сказала смеясь:
— Марина думает, что не особенно — это высшая степень. Не особенно — значит очень.
Клавдия тоже выбежала на террасу.
— Ах, какое изящество! Какая элегантская дама, — бормотала она, проворно перетаскивая вещи Валентины в переднюю, отделённую от столовой крашеной перегородкой. Пакеты, привезённые Анной, она сразу же утащила на кухню.
— Это ваша родственница? — спросила Валентина. — Домашняя работница? Странно... Она больше похожа на такую ехидненькую деву-родственницу.
— Она из владимирских монашек, — сказала Анна тихо. — Правда, немножко странная? Мариночка, поговори с Валентиной Ивановной, а я пойду приготовлю умыться.
Валентина сняла шарф, поправила примятые волосы и осмотрелась. Комната не была чисто вылизанной: на полу насорена мелко искромсанная бумага, у окна на стуле лежали ножницы, какие-то лоскутики — явные следы маринкиной деятельности. Был беспорядок и на этажерке, но беспорядок такой же весёлый.
Валентина обошла кругом стола, неслышно ступая по бело-коричневому узору ковра, понюхала фиалки в высокой синей вазе. Фиалки были очень крупные, настоящие, нежные, весенние фиалки, но без малейшего запаха. Валентина понюхала ещё раз. Да, фиалки ничем не пахли, только чуть уловимая лесная свежесть ощущалась вблизи — дыхание ещё живых лепестков, Валентина вспомнила весну по ту сторону Урала: поля, пахнущие клевером и мятой. Сердце её дрогнуло: нельзя сказать, чтобы жизнь баловала её! Пережив много тяжёлого, о чём даже не хотелось вспоминать, она стояла снова одна на незнакомой земле, как путешественник после кораблекрушения.
Валентина выпрямилась и встретилась с взглядом Маринки. Положив подбородок на руки, сложенные на краю стола, та, всё ещё дичась, нос интересом смотрела на неё.
— Цветы у вас совсем не пахнут, — грустно сказала ей Валентина.
— Не пахнут, — серьёзно подтвердила Маринка. — Они везде не пахнут. И в садике тоже. Это такие цветы. Так себе.
— А есть лучше? — спросила Валентина уже с улыбкой.
— Есть. Лучше. Вот такие есть, — Маринка подняла руки с растопыренными пальчиками. — Большие. Прямо с меня.
Валентина тихо рассмеялась и снова оглянула комнату. Здесь не было дорогой мебели, не было картин даже плохоньких, что свидетельствовало бы сразу о равнодушии к живописи, не было и тех бесчисленных безделок, вроде разных полочек с семёрками «счастливых» слонов, шкатулок, раковин, бронзовых и гипсовых статуэток, которые украшают, а зачастую бессмысленно загромождают жильё оседлого городского человека. Всё было удобно, чисто, но всё как бы заявляло: «А я здесь временно».
Обеденный стол сошёл бы за кухонный, диван мог свободно путешествовать по всем комнатам, так же легко можно было переменить любую вещь в обстановке, до буфета включительно. Это была самая обыкновенная квартира большого предприятия, где каждый новый жилец всё перестанавливал по-своему. И всё-таки в комнате было весело и уютно.
«Это она сама такая, потому и всё вокруг неё кажется радостным, — подумала Валентина, вспоминая светлый смех и грудной голос Анны. Невольно она пристальнее вгляделась в лицо Маринки: — Единственный и, конечно, любимый ребёнок! Каков же он... отец этого ребёнка? У него, наверное, такие же открытые серые глаза, он так же, наверно, жизнерадостен и любим».
Маленький портрет в коричневой гладкой рамке стоял на диванной полке рядом с друзой[3] горного хрусталя.
— Это мой папа, — гордо пояснила Маринка, проследив взгляд гостьи. — Это мой папа, Андрей Никитич Подосёнов, — продолжала она. — У мамы фамилия отдельная, а у нас с папой фамилия вместе. Когда я ещё вырасту, меня будут звать Марина Андреевна Подосёнова.
Андрей оставил лошадь на конном дворе и неторопливо пошёл домой. На улице посёлка горели фонари, совсем бледные в белых сумерках весеннего вечера. Собственно, весна-то давно уже прошла, только здесь, где зима властвовала восемь месяцев в году, всё перемешалось во времени, но если снег падал в июне, то и в снегу, прокалывая его зелёными иглами, продолжала шевелиться трава и оживали деревья.
В парке гуляла приисковая молодёжь, и оттуда вместе с запахом тополей листвы плыл смешанный гул голосов и слышалась музыка. Духовой оркестр играл фокстрот.
«Видно, правду говорят — хлебом не корми, только бы погулять, — подумал Андрей. — Или это на радостях, — вспомнил он о прибытии парохода».
Весёлая мелодия звучала в его ушах с навязчивой беззаботностью. Тяжёлые мысли о работе, о затянувшейся разведке на Долгой горе, всю дорогу не покидавшие Андрея, рассеялись постепенно, и он даже начал насвистывать в тон оркестру.
Не переставая насвистывать, он посмотрел на привезённый им букет горных левкоев. Стебли их нагрелись в его руке, пышные сиреневые зонтики поникли, но тем сильнее излучали они чуть горьковатый аромат.
Так, насвистывая, Андрей и взбежал на террасу. Через открытое окно послышался чужой женский голос. Андрей приостановился. Он знал, что Анна любила, чтобы он был, особенно при посторонних, опрятно одетым, а сейчас всё на нём загрязнилось и пахло от него лошадиным потом. Он посмотрел на кухонную дверь, но почему-то ослушался самого себя и открыл застеклённую дверь столовой.
Что-то мягкое и большое сразу подвернулось ему под ноги в уютно-темноватой передней.
— Ух, какой же ты симпатичный, пёс! — удивился Андрей, разглядев Тайона. — Наступил на тебя? Ну, прости, прости, пожалуйста, — приговаривал он, уже входя в комнату.
Анна встретила его радостной улыбкой, от которой совершенно преображалось, светлело и вспыхивало её лицо, но руки ее на этот раз только слегка прикоснулись к его плечам. Это её лёгкое прикосновение и взгляд только для него так сиявших глаз, как и всегда по возвращении домой, наполнили Андрея чувством живой признательности и затаённой, стыдливой нежности.
— Цветов вот Маринке привёз, — сказал он, досказывая взглядом Анне, что они и для неё тоже. — Хотел привезти ей рябчика, да пожалел: такой он маленький был и несчастный. Ну и отпустил его в траву. Крохотный, весь в пушке, а удирал такими большими, деловыми шагами.
На диване, в тени абажура, сидела молодая женщина и внимательно, просто смотрела на Андрея.
— Познакомься, — сказала Анна, — это наш новый врач, Саенко Валентина Ивановна, — и она выжидательно повернулась в сторону Валентины.
А та уже встала и сама шагнула навстречу, слегка закинув очень румяное с дороги лицо с пухлыми губами и тонко округлённым подбородком. Мягкая ткань платья подчёркивала линию её красивых плеч, блестели над плечами завитки волос, светлых, пушистых и тонких. Невольно Андрей засмотрелся на неё, как на красивое деревцо, и на мгновение задержал в своей руке её руку.
Анна всё это заметила.
«Конечно, хороша», — подумала она, желая оправдать Андрея и в то же время смутно досадуя на него.
Точно желая наказать себя за это странное волнение, за эту вспышку недоверия к Андрею, она вышла на кухню. Она налила воды в гранёную хрустальную вазу, бережно поставила цветы, не переделывая букета по-своему.