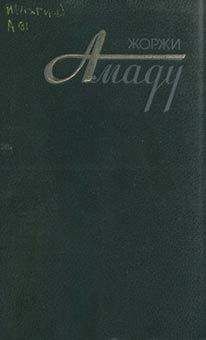Ознакомительная версия.
Лонсевиль собрался уходить, но вспомнил, что Ламсдорф обещал рассказать о восстании, и замешкался. Воспоминание о Кале неожиданно приобрело ясность, — ну конечно, он знает очень многое о леди Кингстон.
— Имя леди Кингстон, — сказал Лонсевиль, ни к кому не обращаясь, является напоминанием об одной из самых удушливых и бесплодных эпох. Кстати, известно ли вам, что Александровский завод отливал статуи для ее дома в Петербурге? Но не в том дело. Будучи в Кале с армией Бонапарта, я слышал от обитателей этого города рассказы о герцогине Кингстон.
Весь город трепетал перед ней. Женщины осыпали ее цветами. Мэр приказал покрыть мостовую около ее дома соломой, дабы стук колес не тревожил покоя этой авантюристки и отравительницы. Она хотела поселиться в Кале навсегда.
Благосостояние города зависело от капризов надменной женщины. Ежели бы она стала гражданкой Кале, это обстоятельство сулило бы городу неслыханное благополучие: богатства Кингстон почитались баснословными. Богатства эти приобретались отравлениями, подлогами, спаиванием крестьян и дворцовыми интригами.
То было время, когда города преклонялись перед низостью, усыпанной алмазами. Что может быть позорнее этого зрелища! Что может быть позорнее почета, воздававшегося Кингстон всеми европейскими дворами! Она визжала на королей и била туфлей по лицу придворных дам.
Когда Кингстон находилась в гостях у польского князя Радзивилла, он сжег ей на потеху деревню со всем нищим скарбом своих крепостных. В пламени погибли дети. И все потому, что герцогине наскучили фейерверки непревзойденного пиротехника генерала Мелессино. Ей хотелось более величественного и жизненного зрелища.
Радзивилл устроил в честь герцогини ночную охоту на кабанов при свете факелов. Чтобы попасть на охоту, герцогиня ехала из Риги в Литву, и по всему ее пути согнали крестьян — жечь костры и застилать хворостом дороги. Однажды лошади понесли, и герцогиня едва не была убита перевернувшейся коляской. Вне себя от злобы, она выдумала гнусную историю, что некий холоп швырнул в коней горящей головешкой. Радзивилл приказал засечь двадцать крестьян. Кингстон наградила его за это одной из своих фальшивых улыбок.
Неужто мы можем забыть, что жизнь тысяч людей была отдана на произвол взбалмошных и злых куртизанок? Неужто мы можем без содрогания вспоминать черные времена абсолютизма?
Как примириться с тем, что Европе снова наступил на горло императорский каблук и народами руководят короли, злые и нечистоплотные, как обезьяны?
Лонсевиль сжал голову руками. Потом он встал и стремительно вышел. Ларин взглянул на его бледный профиль, промелькнувший в багровом пламени задрожавших свечей, и прошептал соседу:
— Как он похож на Руже де Лиля!
Он настолько растерялся, что позабыл проводить Лонсевиля до дверей.
Лонсевиль быстро шел по улицам. Сырой ветер шумел в садах, и было явственно слышно, как хрустит и оседает снег. В порывах ветра Лонсевиль улавливал похожий на рыданье и радостный крик напев отдаленной марсельезы. Он усмехнулся, вспомнив о выпитом вине.
Лонсевиль не слышал рассказа Ламсдорфа о подавлении восстания приписных крестьян.
Расспросив Ларина и двух смущенных юношей, присутствовавших при рассказе генерала, он составил ясную картину последних дней восстания.
Поздней осенью 1770 года Соболев бежал из арестного дома в Петербурге и появился в Великой Губе.
Лыкошин, предпочитавший отсиживаться на заводе в надежде, что восстание погаснет само по себе, получил из Петербурга приказ арестовать матежника.
Лыкошин отправил в Великую Губу солдат, но мятежники разоружили их. Вернувшись, солдаты рассказывали, что крестьяне вооружены, кроме самопалов, рогатинами и пестами.
Лыкошин понял, что дальнейшее бездействие будет стоить чинов, орденов и свободы. Он двинул в гнездо восстания — деревню Кижи — крупные силы. После жестокого боя войска опять отступили. Ламсдорф донес, что мятежники идут сражаться, соблюдая все правила военного искусства. Когда солдаты подходили к Кижам, утопая в снегах, отряды лыжников-крестьян окружили их и нанесли сокрушительный удар с тыла.
Численность мятежников Ламсдорф определил в девять тысяч человек. Он высказал предположение, что во главе восставших стоит умелый и упорный руководитель.
— Климка Соболев, не иначе, — заметил Лыкошин, выслушав донесение.
К тому времени обстановка складывалась для Лыкошина благоприятно. В Москве началась чума, и Екатерина как бы забыла о мятеже в Олонецком крае. Можно было выждать еще малость, благо на заводе от безделья шла картежная игра и гремели балы.
Лыкошин во всем, кроме военных дел, был человеком азарта. То был полководец второго ранга, ленивый и хитроватый. Военной славе он предпочитал славу бальных зал, где блеск вышитого мундира не требовал изнурительной погони за наглым холопом.
Губернатор торопил Лыкошина. Он опасался, что в Заонежье воскресли нравы Великого Новгорода и крепнет крестьянская республика, грозящая всему краю жакерией.
— Полноте, ваше сиятельство, — отвечал благодушно Лыкошин, — вот снежок растает, тогда мы и подпалим зад у ваших новгородцев. Воины, как говаривал Юлий Цезарь, даже бездействуя, бывают ужасны врагам.
В начале лета 1771 года пришло известие о возмущении яицких казаков, и Лыкошин получил предписание, где было сказано:
«Поелику олонецкие мятежники могут обнадежиться преступным возмущением яицкого люда, надлежит их разбить тотчас же с силой и решимостью, не медля, подобно прежнему, и не боясь причинить огорчительность государыне великим пролитием мужицкой крови».
Тогда Лыкошин послал в Кижи с пехотой и артиллерией князя Урусова, Ламсдорфу он уже не доверял. Мятежники так привыкли к лености и бездеятельности войск, что допустили их войти в деревню и засели за церковной оградой.
Начались хитроумные переговоры о сдаче. Клим Соболев отвечал князю резко и весело. Урусов багровел от гнева, чувствуя, что этот смерд находчивее его, князя, чье острословие стало притчей игорных домов.
Дабы внести раздор в ряды мятежников, Урусов подослал к ним Каллистратова, окончательно раскаявшегося и перешедшего на сторону начальства. Мятежники Каллистратова избили и прогнали.
Воспользовавшись сумятицей с Каллистратовым, Урусов подвез пушки и навел их на церковный двор. Мятежники смеялись и показывали артиллеристам кукиши. В церкви шла беспрерывная служба — Соболев был уверен, что офицеры не решатся стрелять по храму во время богослужения. Он ждал предательства, но не допускал мысли о кощунстве, — такова была дикая логика екатерининских времен.
Урусов снял шляпу с плюмажем и махнул артиллеристам.
Ударил первый залп. Мятежники смешались. Раздались крики, брань, потом одиночные выстрелы.
— Картечь, картечь! — кричал в исступлении Урусов, и залпы били в упор, в толпу крестьян.
Три часа мятежники сопротивлялись, прячась в церкви и среди могильных плит. Убитых сносили в алтарь. После каждого залпа от церкви отлетали шепки. Свинец дымился и распространял кислый дым. Кровь, густая, как слюна, капала в пыльную крапиву.
К вечеру мятежники сдались. Восемьдесят человек во главе с Соболевым были согнаны на завод, закованы в цепи и отправлены в Петербург.
Всем им, по приговору Сената, вырвали ноздри, выжгли на лице знаки: на лбу букву В, на правой щеке — О и на левой щеке — 3, и погнали на каторгу в Пелым.
Клейма для знаков отлили на Александровском заводе.
Ранней весной Лонсевиль был арестован и отправлен под конвоем в Петербург.
Везли его небритые солдаты, охрипшие от бессонницы и водки. В возке было тесно. Угловатые тесаки били по ногам. От солдат несло сырым табачищем и потом. На ночлегах конвоиры били вшей, поили Лонсевиля жидким чаем и безо всякого успеха любезничали со злыми хозяйками, пытаясь выклянчить вареной картошки и каши.
В Петербурге Лонсевиль был доставлен к начальнику жандармской команды.
Лонсевилю предъявили обвинение в распространении на Александровском заводе крайних мыслей, подрывающих устои империи.
— Я офицер французской армии. — Лонсевиль посмотрел в глаза жандармского генерала, напоминавшие по цвету спитой чай. — Я имею право высказывать любые мысли. Вам известно, что в этой стране я нахожусь помимо воли. Неразумно требовать, чтобы человек, подчинившийся жестокой судьбе и живущий в обстановке враждебной, оправдывал варварство, столь же ему чуждое, как вам чужды идеи революции.
Лонсевиль замолчал. В кабинете стояла густая тишина. За высокими окнами, за туманом серенького денька во дворе казарм, желтых и величественных до скуки, глухо гремел барабан.
Ознакомительная версия.