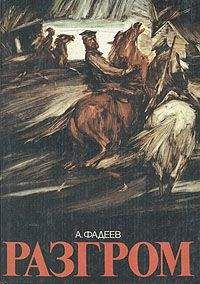— Ну, как нам выгнать его, дурака? — заговорил Гончарен-ко, вздымая над толпой кудрявую, опаленную голову. — Я не в защиту, потому на две стороны тут не вильнешь, — напакостил парень, сам я с ним кажен день лаюсь… Только и парень, сказать, боевой — не отымешь. Мы с ним весь Уссурийский фронт прошли, на передовых. Свой парень — не выдаст, не продаст…
— Свой… — с горечью перебил Дубов. — А нам он, думаешь, не свой?.. В одной дыре коптили… третий месяц под одной шинелькой спим!.. А тут всякая сволочь, — вспомнил он вдруг сладкоголосого Чижа, — учить будет!..
— Вот я к тому и веду, — продолжал Гончаренко, недоуменно косясь на Дубова (он принял его ругательство на свой счет). — Бросить это дело без последствий никак невозможно, а сразу прогонять тоже не резон — прокидаемся. Мое мнение такое: спросить его самого!.. — И он увесисто резанул ладонью, поставив ее на ребро, будто отделил все чужое и ненужное от своего и правильного.
— Верно!.. Самого спросить!.. Пущай скажет, ежели сознательный!..
Дубов, начавший было протискиваться на место, остановился в проходе и пытливо уставился на Морозку. Тот глядел, не понимая, нервно теребя сорочку потными пальцами.
— Говори, как сам мыслишь!..
Морозка покосился на Левинсона.
— Да разве б я… — начал он тихо и смолк, не находя слов.
— Говори, говори!.. — закричали поощрительно.
— Да разве б я… сделал такое… — Он опять не нашел нужного слова и кивнул на Рябца… — Ну, дыни эти самые… сделал бы, ежели б подумал… со зла или как? А то ведь сызмальства это у нас — все знают, так вот и я… А как сказал Дубов, что всех я ребят наших… да разве же я, братцы!.. — вдруг вырвалось у него изнутри, и весь он подался вперед, схватившись за грудь, и глаза его брызнули светом, теплым и влажным… — Да я кровь отдам по жилке за каждого, а не то чтобы позор или как!..
Посторонние звуки с улицы толкнулись в комнату: собака лаяла где-то на Сниткинском кутку, пели девчата, рядом у попа стучало что-то размеренно и тупо, будто в ступке толкли. «Заводи-и!..» — протяжно кричали на пароме.
— Ну, как я сам себя накажу?.. — с болью, но уже значительно тверже и менее искренне продолжал Морозка… — Только слово дать могу… шахтерское… уж это верное будет — мараться не стану…
— А если не сдержишь? — осторожно спросил Левинсон.
— Сдержу я… — И Морозка сморщился, стыдясь перед мужиками.
— А если нет?..
— Тогда что хотите… хоть расстреляйте…
— И расстреляем! — строго сказал Дубов, но глаза его блестели уже без всякого гнева, любовно и насмешливо.
— Значит, и шабаш! Амба!.. — закричали со скамей.
— Ну вот, и делов-то всех… — заговорили мужики, радуясь тому, что канительное собрание приходит к концу. — Дело-то пустяковое, а разговоров на год…
— На этом и решим, что ли?.. Других предложений не будет?..
— Да закрывай ты, ч-черт!.. — шумели партизаны, прорвавшись после недавнего напряжения. — И то надоело уж… Жрать охота, — кишка кишке шиш показывает!..
— Нет, обождите, — сказал Левинсон, подняв руку и сдержанно щурясь. — С этим вопросом покончено, теперь другой…
— Что там еще?!
— Да, думаю я, нужно нам такую резолюцию принять… — он оглянулся вокруг… — а секретаря-то у нас и не было!.. — засмеялся он вдруг мелко и добродушно. — Иди-ка, Чиж, запиши… такую резолюцию принять: чтоб в свободное от военных действий время не собак по улицам гонять, а помогать хозяевам, хоть немного… — Он сказал это так убедительно, будто сам верил, что хоть кто-нибудь станет помогать хозяевам.
— Да мы того не требуем!.. — крикнул кто-то из мужиков. Левинсон подумал: «Клюнуло…»
— Цьщ, ты-ы… — оборвали мужика остальные. — Слухай лучше. Пущай и вправду поработают — руки не отвалятся!..
— А Рябцу мы особо отработаем…
— Почему особо? — заволновались мужики. — Что он за шишка?.. Невелик труд — председателем всякий может!..
— Кончать, кончать!.. согласны!.. записывай!.. — Партизаны срывались с мест и, уже не слушаясь командира, валили из комнаты.
— И-эх… Ваня-а!.. — подскочил к Морозке лохматый, востроносый парень и, дробно постукивая сапожками, потащил его к выходу. — Мальчик ты мой разлюбезный, сыночек ты мой, сопливая ноздря… И-эх! — вытаптывал он на крыльце, лихо заламывая фуражку и обнимая Морозку другой рукой.
— Иди ты, — беззлобно пхнул его ординарец. Мимо быстро прошли Левинсон и Бакланов.
— Ну, и здоровый этот Дубов, — говорил помощник, возбужденно брызгая слюной и размахивая руками. — Вот их с Гончаренкой стравить! Кто кого, как ты думаешь?
Левинсон, занятый другим, не слушал его. Отсыревшая пыль сдавала под ногами зыбуче и мягко.
Морозка незаметно отстал. Последние мужики обогнали его. Они говорили теперь спокойно, не торопясь, точно шли с работы, а не со сходки.
На бугор ползли приветливые огоньки хат, звали ужинать. Река шумела в тумане на сотни журливых голосов.
«Мишку еще не поил…» — встрепенулся Морозна, входя постепенно в привычный вымеренный круг.
В конюшне, почуяв хозяина. Мишка заржал тихо и недовольно, будто спрашивая: «Где это ты шляешься?» Морозка нащупал в темноте жесткую гриву и потянул его из пуни.
— Ишь обрадовался, — оттолкнул он Мишкину голову, когда тот нахально уткнулся в шею влажными ноздрями. — Только блудить умеешь, а отдуваться — так мне одному…
О тряд Левинсона стоял на отдыхе уже пятую неделю — оброс хозяйством: заводными лошадьми, подводами, кухонными котлами, вокруг которых ютились оборванные, сговорчивые дезертиры из чужих отрядов, — народ разленился, спал больше, чем следует, даже в караулах. Тревожные вести не позволяли Левин-сону сдвинуть с места всю эту громоздкую махину: он боялся сделать опрометчивый шаг — новые факты то подтверждали, то высмеивали его опасения. Не раз он обвинял себя в излишней осторожности — особенно, когда стало известно, что японцы покинули Крыловку и разведка не обнаружила неприятеля на многие десятки верст.
Однако никто, кроме Сташинского, не знал об этих колебаниях Левинсона. Да и никто в отряде не знал, что Левинсон может вообще колебаться: он ни с кем не делился своими мыслями и чувствами, преподносил уже готовые «да» или «нет». Поэтому он казался всем — за исключением таких людей, как Дубов, Сташин-ский, Гончаренко, знавших истинную его цену, — человеком особой, правильной породы. Каждый партизан, особенно юный Бакланов, старавшийся во всем походить на командира, перенимавший даже его внешние манеры, думал примерно так: «Конечно, я, грешный человек, имею много слабостей; я многого не понимаю, многого не умею в себе преодолеть; дома у меня заботливая и теплая жена или невеста, по которой я скучаю; я люблю сладкие дыни, или молочко с хлебцем, или же чищеные сапоги, чтобы покорять девчат на вечерке. А вот Левинсон — это совсем другое. Его нельзя заподозрить в чем-нибудь подобном: он все понимает, все делает как нужно, он не ходит к девчатам, как Бакланов, и не ворует дынь, как Морозка; он знает только одно — дело. Поэтому нельзя не доверять и не подчиняться такому правильному человеку…»
С той поры как Левинсон был выбран командиром, никто не мог себе представить его на другом месте: каждому казалось, что самой отличительной его чертой является именно то, что он командует их отрядом. Если бы Левинсон рассказал о том, как в детстве он помогал отцу торговать подержанной мебелью, как отец его всю жизнь хотел разбогатеть, но боялся мышей и скверно играл на скрипке, — каждый счел бы это едва ли уместной шуткой. Но Левинсон никогда не рассказывал таких вещей. Не потому, что был скрытен, а потому, что знал, что о нем думают именно как о человеке «особой породы», знал также многие свои слабости и слабости других людей и думал, что вести за собой других людей можно, только указывая им на их слабости и подавляя, пряча от них свои. В равной мере он никогда не пытался высмеивать юного Бакланова за подражание. В его годы Левинсон тоже подражал людям, учившим его, причем они казались ему такими же правильными, каким он — Бакланову. Впоследствии он убедился, что это не так, и все же был очень благодарен им. Ведь Бакланов перенимал у него не только внешние манеры, но и старый жизненный опыт — навыки борьбы, работы, поведения. И Ле-винсон знал, что внешние манеры отсеются с годами, а навыки, пополнившись личным опытом, перейдут к новым Левинсонам и Баклановым, а это — очень важно и нужно.
… В сырую полночь в начале августа пришла в отряд конная эстафета. Прислал ее старый Суховей-Ковтун — начальник штаба партизанских отрядов. Старый Суховей-Ковтун писал о нападении японцев на Анучино, где были сосредоточены главные партизанские силы, о смертном бое под Известкой, о сотнях замученных людей, о том, что сам он прячется в охотничьем зимовье, раненный девятью пулями, и что уж, видно, ему недолго осталось жить…