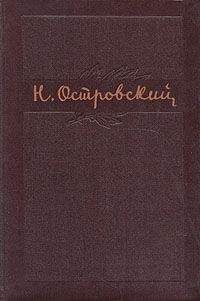Хорошо будет, когда в горсовет вольется новая, светлая волна рабочих.
Я и не думаю останавливать хоть на крошку это Раино движение, всем, чем могу, поддерживаю эту растущую пролетарку. Одно только неизбежно — это мое одиночество, и то, что 30 газет не прочитано, так как я не вижу, и я отстал от жизни на месяц — но это неизбежно. Ведь я знал и знаю, что я должен буду подготовить Рае уход на общественную работу целиком когда-либо.
Она накануне вступления в ВКП. Я дал ей свою рекомендацию. Меня ведь здесь, несмотря на удары обоюдные, не считают плохим парнем…
Коля.
16 ноября 1928 г.
21 ноября 1928 года, Сочи.
Милый дружочек Шурочка!
Получили твое письмо от 12/Х. Я буду писать кратко, т. к. каждое слово — мучительная боль глаз. Я пишу наслепую, не видя.
Итак, я с головой ушел в классовую борьбу здесь. Кругом нас здесь остатки белых и буржуазии. Наше домоуправление было в руках врага — сын попа, бывший дачевладелец. Я и Рая, ознакомившись со всеми, организовываем рабочих и своих товарищей, живущих здесь, и требуем перевыборов домоуправа. Все чуждые взбесились и все, что могли, делали против — 2 раза срывали собрание. Загорелись страсти. Но, наконец, в 3[-й] раз собрались у меня в комнате все рабочие и комфракция, и наше большинство голосов выбрало преддомуправ[лением] рабочую, энергичную женщину. Домоуправление в наших руках. Потом пошла борьба за следующий дом ОМХ. Он после «боя» тоже нами завоеван, бывший пред. — темная политическая личность. Буржуйский прихлебатель, скрывал, наверно, все курортсборы и наделал разных махинаций с бывшими владельцами.
Мы это все разберем. О соседах-барах я писал уже. Они втроем живут в 6 комнатах и кухне и проч. и проч. Их пассивно кто-то в исполкоме защищает — нельзя пробить брешь, нет у здешних работников непримиримой большевистской линии, но я буду ударять все время, пока не добьемся. Дело идет не обо мне, нет, тут борьба классовая — за вышибание чуждых и врагов из особняков. Меня уже здесь ненавидят все эти бывшие шахтовладельцы и прочие гады, и крепче сближаются рабочие.
Подумай, Шура, такой, например, есть тип. Говорит семья одна только по-французски и немецки, он по лицу бывший барин, поет оперы и прочее — все белой кости, и… служит кучером, — голову даю на отсечение — бывший белый, все эти недорезанные герои за помещиков Бабкиных. Я ведь тоже служил в ЧК, душа с них вон, гадов. Первые позиции мы, т[оварищи] и я, и 8 семей рабочих и коммунистов завоевали.
Далее борьба пойдет за перевод рабочих семей из подвалов в роскошные комнаты бывших панов. В исполкоме и ОМХ у нас поддержки нет никакой: какая-то бабка ворожит бывшим людям. Тов. Вольмер, видно, хороший большевик, но слабохарактерный.
Я тебе прямо скажу, что я начинаю борьбу уже с аппаратом и понемногу наживаю там врагов. Но, начав, я уже буду идти дальше. Ведь рабочие ребята тогда меня барахлом назовут, если я из-за того, что ожидаю от работников комнаты хорошей, не захочу их тревожить. Черт с ихней комнатой — будем жить в этом мешке, доживем до лета. Но я уже послал два резких письма. И если не удастся пробить дыру, организуем наступление через прокурат[уру], ГПУ и т. д…
Дорогой дружочек Шура, вся эта буржуазная недогрызь бегает и шныряет и находит, к возмущению нашему, поддержку в аппарате. Мы говорим, что вот буржуи живут в государственном доме — потесните их, а нам нагло отвечают: «Там нет жилой площади свободной».
Шура! Несмотря на то, что я здесь заболел и тяжело чувствую, я все забываю, и хотя много тревоги и волнений, но мне прибавилось жизни, так как группа рабочих, группируясь около меня, как родного человека, ведет борьбу и я в ней участвую.
Жду твоих писем, родная.
Коля.
21-го ноября 1928 г.
26 ноября 1928 года, Сочи.
Шура — милая!
Мне не надо было бы писать сейчас тебе это письмо — потому что пишется оно порывом и в возбужденном состоянии, но именно в такие минуты я хочу тебе писать…
Я все делаю, чтобы войти в спокойную колею (чтобы заиметь силенки растраченные), но помимо моего желания жизнь врывается и помимо моей воли, все же я должен и беру курс на временную изоляцию, чтобы окончательно не зайти в физический тупик. Ведь мое сердечко, Шура, начало биться, «как у молодого», т. е. очень горячо и поспешно, и я должен его привести в спокой.
Товарищ мой родной, ты будешь мне писать чуть чаще (если время позволит), и я подлатаюсь морально, т. к. у меня, Шурочка, несмотря на мое сопротивление, бывают периоды депрессии и упадка морально-физических сил. До сих пор я осиливал эти наплывы, но с каждым разом все с большими трудностями.
Когда я потеряю основную базу моей жизни, это надежду вернуться к борьбе, это будет для меня конечный пункт.
Я иногда с сожалением думаю, сколько энергии, бесконечного большевистского упрямства у меня уходит на то, чтобы не удариться в тупик; будь это потрачено производительно, было бы достаточно пользы.
Подумай, моя родная Шурочка, ведь нужны же силы для парня, чтобы, будучи неподвижным и слепым, почти одиноким (Рая дни и вечера в хороводе работ своих), и не засыпаться. Вокруг меня ходят крепкие, как волы, люди, но с холодной, как у рыб, кровью, сонные, безразличные, скучные и размагниченные. От их речей веет плесенью, и я их ненавижу, не могу понять, как здоровый человек может «скучать» в такой напряженный период.
Я никогда не жил такой жизнью и не буду жить.
А пьянство — потоки алкоголя, это ведь признак упадка, а пьют, Шура, смертельно, по-животному, по-собачьи.
Я очень хотел бы тебя видеть, говорить — ты одна из тех, кому я верю много. Одна из тех, кто никогда не предаст, не забудет ленинских заветов, ты мой старший партийный друг, и мне в настоящей обстановке иногда необходимо товарищество. Я глубоко в себе начертал дорогу — я знаю, куда и как мы идем, я не стою на распутье, нет. [дальше не разборчиво. — Ред.]
Читал, что ты бросила курить, прямо не верится — удастся ли это явление стабилизировать?
Шурочка! Я прошу тебя, чтобы ты не слала больше денег, ведь ты этим срываешь свой бюджет. Я о пенсии здесь ничего не узнал — не прислали еще материалы. Одно меня радует, что если они назначат пенсию в 47 р. и выплатят разницу за прошлое, то этой разницы мне хватит возвратить тебе твою дружескую помощь… Я бы был к тебе еще более близок, так как эти материальные недочеты меня смущают. Придет лето, и мы увидимся с тобой и Лёней. О радио не пишу, когда закончится монтаж — тогда сообщу все, слышу ли я Ленинград.
Привет сынишке.
Твой Коля.
26 ноября 1928 г.
Ноябрь 1928 года, Сочи.
Милая Шура!
Кратко сообщаю последнюю новость.
Первый период борьбы — выселение буржуазии — окончен. Необходимо успокоиться, уж очень много сил ушло на ожесточенную стычку. Победа осталась за нами. В доме остался только один враг, буржуйский недогрызок, мой сосед. В бессильной злобе эта сука не дает нам топить, и я сижу в холодной комнате; мое счастье, что стоит прекрасная погода, а то я бы замерз. Кто-то из этих бандитов бросил мне камень в окно, целился в голову, да плохо, разбилось только стекло, это уже не первая бомбардировка. Пользуясь моей беспомощностью, когда Рая уходит, начинают меня атаковать камешками. Это никудышные попытки чем-либо отомстить. Черт с ними, это все ерунда. Все мы устали чертовски, стал ненавистным аппарат, сделавший все что мог, чтобы помешать, получил и я пару раз по зубам, дал сдачи — все пока окончилось перепиской. Правая опасность здесь имеет живое отражение, здесь непролазные кучи работы и борьбы, но это не с моими силами. Писать же для того, чтобы люди презрительно усмехались и рвали письмо, не стоит. Встать же и трусить за душу геморойных бюрократов нет сил, поэтому надо успокоиться. Знаешь, на бумаге всего нельзя рассказать, бумага плохой конспиратор, встретимся — обо всем расскажу, и я уверен, что ты подтвердишь мою политическую организационную линию, а пока я вымотал все кусочки сил и надо успокоиться.
Теперь становятся в повестке дня различные бытовые вопросы, чисто личного характера, как топка, постановка радио и т. д., решив которые, жизнь должна пойти нормальным порядком.
Ты должна мне написать большое письмо о внутрипартийной жизни, я окончательно оторвался от текущих событий, слепота не дает возможности читать, а Рая закружилась в круге общественной работы. Я, наконец, докопался до неиссякаемого источника нашего бюджета, я дурень даже не задумывался ранее, как выдерживала скромная пенсия по жизни; и когда, наконец, учинил чекистский допрос Рае путем перекрестных вопросов, выяснил следующее, что нас бесперебойно снабжает отделение Госбанка на Васильевском острове. Что Вы на это скажете, тов. Жигирева? Если бы я был верующим, то сказал бы из священного писания: что «всякое даяние есть благо и всяк приносящий его благословен богом», но так как я не поп, а материалист, то я могу только тебе поставить на вид твою расточительность и бесхозяйственность давать таким типам, как я, под видом взаймы, деньги — безнадежное дело. Довольно чудить, ты хорошо знаешь, как я отношусь к этому, мне остается только крепко, крепко пожать твою руку, будем надеяться, что государство освободит тебя от столь неожиданного явления.