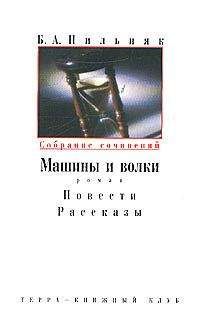Восток бледнел, впереди лежало черное холодное поле. Среди идущих за хлебом был один, приявший романтику городской, машинной, рабочей революции, — и эта весть о волках, это холодное пустое поле впереди, страшащее волчьим разгулом, безмолвием снегов, навсегда остались у нега — одиночеством, тоской, проклятьем хлеба, проклятьем дикой мужицкой жизни вперемежку с волками.
С тех пор прошло пять лет. И новые пришли декабри — великих российских распутий.
Те дни в России многим казалось, что исконными, российскими, еще от Петра Первого, дыбами, на огромные дыбы поднята Россия, и из 23-го, положим, октября 1917-го года, в 28-е октября перескочить надо по отвесу более отвесному, чем тысяча верст российских проселков — тоже ставшая дыбом. —)
Но и волки могут страдать… Я прожил эти годы волком, ничего, кроме страданий, они мне не дали. Я просыпался каждое утро с ощущением, что я на станции, уехал и застрял в пути, — но я — волк — и каждое утро я бежал от себя, к волкам же в дебри… Я все думаю — какая же игра стоит свечей? — и какие же свечи стоят — вот этой игры, что разыграл я, человек, мужчина, инженер, прочее… У меня есть одно — моя жизнь, больше я ничего не знаю, и о ней речь. Трудно быть куром во щах. У меня есть навязчивые картины памяти. Вот несколько из них. Сначала две аналогичные… Это было в девятьсот девятнадцатом году в Коломне, когда я еще не знал Милицы. Была зима такая, как у самоедов, мы спали в шубах и валенках, забыли о белье, вечера коротали с лампадами, и у каждого в комнате стояла железка, как на кубрике у матросов в каботажных кораблях: это потому, что мы шли на дыбах все в России, в российской равнине, поставив равнину в отвес, чтобы срываться… Днем я распоряжался столбами и растягивал проволоку, чтобы проводить электричество гражданам, — и работа была на каждый день, хотя проволоки у нас и не было: то тут, то там срезывали ночами проволоку, и тогда я знал, что завтра придет гражданин, поплачется, принесет должные за проводку мешки с мукою, поплачется и скажет, что «проволочишка у него, слава богу, нашлась, сохранилась от старых времен…» — потом, через неделю гражданин прибегал и уже не плакался, а орал, что «сволочи, воры, грабители» у гражданина срезали проволоку. Я знал, что назавтра придет новый гражданин. А у лампочек в общественных местах были надписи, вроде такой: «Гражданин! не трудись воровать! — лампочка припаяна!..» — Но я отвлекся. Коротко. В Коломне тогда формировался кавалерийский дивизион, шинелей для красноармейцев не было, и им из старых запасов выдали парадную гусарскую форму, красные штаны и всячески расшитые мундиры, — им было, должно быть, очень холодно, но иносторонним зато красиво было смотреть на них. Я был в компании командиров. Однажды мы запили и играли в карты, три дня подряд. Днем, все же, я ходил развешивать перепереворованную проволоку. И вот, день на третий, днем, проходя мимо, я зашел на минуту выпить водки от холода. Все было открыто, командиры жили в большом реквизированном доме, я прошел ряд пустых комнат и вышел в зал. И я увидел: как все спали. Четверо заснули за столом, один с зажатыми в руке картами и с закинутой другой рукой, чтобы кинуть карту и бить ей, — один спал стоя, прислонившись к печи. Махорочный дым улегся, в окно шел солнечный свет, очень яркий, и в комнате было безмолвно. Мне стало страшно, мне стало очень страшно. Тогда я побежал от них, каждая пустая комната давила новым страхом, и я бежал все скорее, — потом, уже на дворе, где столпились кавалеристы, я стал — непонятно почему — за собачью конуру и стоял там с добрый час, и я знаю, если бы тогда кто-нибудь побежал мимо меня, я бросился бы на него!.. Это один эпизод, мне ничего не стоит призвать его, и тогда я, как наяву, вижу все подробности, и свисший ус командира дивизиона — по службе и на войне, а в жизни и до войны — опереточного актера, — но этот эпизод приходит мне в память, ясный, как галлюцинация, и помимо моей воли тогда мне хочется лезть под кровать и кусаться, и выть волком. Кругом нас, вчера, сегодня, тут, там, — такая страшная революция, — ты слышишь, какая тишина?..[4] Но ведь мне все же жить, — и в сентябре бывают золотые дни… Но вот — другой эпизод. Это в детстве, я был гимназистом, в Ростиславле на Рождестве к отцу собирались соседи-помещики, и они все ночи играли в большой шлем. Женщины и дети спали, за картами, обалдев, уже безмолвно, сидели только мужчины. Помню, глубоко ночью мне понадобилось встать. Вы, оба брата меньшие, спали, — было темно, и за окном, в двух аршинах от стекла, черпал ночь ковш Большой Медведицы. Дом замер в тепле, в просторном дыхании здоровых людей, в тех хороших запахах, которые несут деревенские святки в доме прадедов. Я по коврику и потом по коридору прошел в залу, на сундучке спала няня. Двери в кабинет отца были открыты, и оттуда шел свет. Я подошел к двери и увидел, — вот это тоже всегда стоит перед моими глазами: на ломберном столе горели три свечи, четвертая потухла, и за столом сидели четверо, за картами, — отец поднял карту и задумался над ней, его партнер зажал сигару в углу рта и прищурился, выжидая, — двое остальных мне не запомнились, но они были неподвижны, — а по комнате ходил синими туманами табачный дым. Отец резким движением открыл карту, кинул ее на стол и сказал: — «Пикендрясы!» — Вот и все! Я проплакал всю ту ночь до рассвета. У Гоголя в «Мертвых душах» есть это слово — «пикендрясы» — и я прочитал «Мертвые души» только до этого слова, — не мог дальше. Ни разу в жизни не произнес вслух я этого слова, — «пикендрясы», — и больше всего в мире я чту память отца — за это слово — «пикендрясы», потому что любовь есть огромная боль, и боль — есть любовь.
«Брат! Брат мой!.. И еще об одном я хочу рассказать. Помнишь, студентами, в Москве у Елисеева мы покупали гранаты, мы срывали красную кожу, и там внутри были красные, ничем не связанные с мякотью, холодящие и кисло-сладкие зерна. Как это передать? — Много раз, с Милицей, вдвоем, когда она лежала в кресле, а я стоял около и смотрел на нее, мне начинало казаться, я явственно видел, что, как в гранатах зерна, два ее карие глаза ничем не связаны с ее телом, что тело — это гранатовая оболочка чего-то странного, неизвестного, что выглядывает наружу парою этих глаз и хорошо укрылось, вопреки всяческим анатомиям, там, внутри тела. То, лежащее внутри и выглядывающее глазами, сделано совсем не из костей и не из мяса, оно растет, должно быть, как коралловый риф и чертовы пальцы (помнишь, мы над Окой собирали чертовы пальцы? их цвет, как глаза Милицы, как кожа на переплетах старых книг). И много раз мне приходилось насильно прятать свои руки за спину, потому что, как кожу граната, мне хотелось, возможности не было не сделать этого, — отковырнуть кожу между глаз Милицы, чтобы посмотреть, какими рифами срослись внутри глаза… Брат, брат мой!..»
(Это письмо Юрия Георгиевича Росчиславского (и письмо, нижеописанное) пришло к брату инженеру Андрею в Коломну на завод в дни и при обстоятельствах, описанных в повести на страницах 100-х.)
Москва. Трубниковский переулок. Года — девятьсот восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый. Зима. —
Где сердце Москвы? и не там ли, где твое сердце?.. Маями пустынно в Москве, белые сумерки ворошат душу. Раньше сотни лет подряд, декабрями в переулках, в Москве кричали торговцы:
— Ря-азань! Ря-аазааань яблакооо! — —
Слова, автору, мне — как монета нумизмату. Рязань — яблоко! — в декабрях, когда дни коротки и каждый день — как белый дом в переулочке, с печным огнем и длинным вечером у книг, — приносили антоновские яблоки, промороженные до костей и морозящие до лопаток, — в яблоках тонкими иглами сверкали льдинки, яблоки казались гнилыми — и пахнули таким старым и крепким вином! — Там, в декабрях, далеко от лета и яблоки в декабре казались гнилыми — их страшно было коснуться! — и яблоки пахли древним вином. — — Эти яблоки, как дома в переулках, белые дома с колонками, ушли в отошедшую сотню лет, в декабри, в закоулки старых российских зим.
А июнем — —
московский Кремль — сед, во мхах. На Спасских воротах бьют часы:
— Кто там заспал на Спас-башне?!
Чтобы пройти в Кремль в лето тысяча девятьсот двадцать первое, — в лето, как каменные бабы из курганов, — над Москвою белесые ночи в июне и декреты спутали время на два часа, — чтобы пропустить в Кремль белесой ночью, из Кутафьи-башни звонят в комендатуру. Кремль стоит седой, в ночной, как мхи, белесой мути стоят солдаты — в шлемах и в рубахах, похожих ночью на кольчуги. Из комендатуры точно спрашивают об имени и мандатах, и тогда пропускает стража в шлемах — по Троицкому мосту — в Троицкие ворота — в Кремль. Пушки во мхах мути, стоят как столетье, — Дворцовая улица пустынна.
Из древнего дворца, с террасы, откуда Иван Грозный бросал котят за Кремлевскую стену, — вся Москва у ног. Сердце Ивана Грозного было, должно быть, как поджаренная жаба. Внизу по стене за зубцами ходит часовой. Замоскворечье легло блюдцем — тем, с которого купцы пьют чай. Арбата нет, Румянцевский музей заменил горизонт, чертит небо осьмнадцатым веком. Лоб Лубянского холма стал товарищем. И огни, огни, огни. И белесое небо во мхах. И вся Москва в дыму, ибо — кругом горят леса. Это стою там, где стоял Грозный — я, писатель, — и рядом со мной стоит человек, писатель, большевик, имя которого в революционном синодике поставлено в первом десятке. Автомобиль, уставший стоять, весь день кроил Москву — но человек устал, и вот он стоит в нижней рубашке с расстегнутым воротом, сутулясь. Там — Москва, Рязань, Подмосковье, Поочье, Поволжье — Россия. Здесь — совнарком, власть октябрьских воль, — и — тоже — Россия… Кремль — сед!