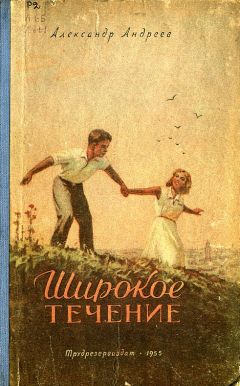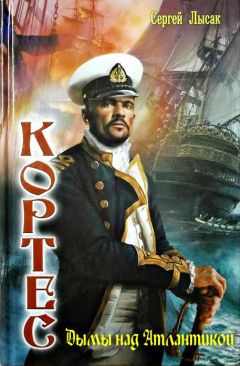Вывернувшийся из-за печи старший мастер Самылкин, оглядываясь по сторонам, сообщил, как тайну:
— Замечайте, ребята, весь цех на вас смотрит: процентов двести пятьдесят должны дать, никак не меньше. — И откатился к другому молоту, как мальчику погрозив Антону пальцем.
— Слышали?.. — многозначительно напомнил Фома Прохорович.
Надвинув кепку на брови, Антон стал регулировать подачу горючего в печь. Сумрачный, по-вокзальному громадный корпус с приходом здоровых, хорошо отдохнувших людей оживал, отовсюду неслись веселые восклицания.
Прозвучал сигнал, и молоты один за другим пришли в движение; гром ударов, могуче, полноводно ширясь, смял людские голоса, подобно артиллерийской подготовке перед атакой, огненные вспышки озарили пространство; учащенный ритм труда властно захватывал людей.
Только Антон, угнетенный неотступной думой о том светлом, теперь уже навсегда потерянном, что было связано с именем Люси, оставался безучастным ко всему; как ни старался расшевелить себя, не чувствовал прежней удали, игры сил; голова все еще болела, настойчиво звенели в ушах резкие слова: «Я не нуждаюсь ни в вас, ни в вашей любви!»
Фома Прохорович, наклонив голову, поверх очков смотрел на него из-под нависших бровей с недоумением, как бы не узнавая. От этих взглядов нагревальщик еще больше волновался и нервничал. Кочерга как назло не слушалась, соскальзывала с горячих заготовок, болванка заваливалась в выщербленный печной под.
«Чорт бы тебя взял! — мысленно ругался Антон, напрягаясь и исходя потом. — Неужели нельзя ничего придумать, чтоб полегче было?.. А то вот дергай ее, окаянную!.. Вон она завалилась и лежит, хоть разорвись тут! А ведь инженеров, техников в цехе тьма! Дать бы им кочергу в руки, пускай поковыряются, кочерга скорее заставит их пошевелить мозгами. — И, сердясь, с силой выворачивал болванку вместе с кирпичами. — А, чорт!.. Рельсы бы тут проложить, что ли?..» Вслед за тем мысль назойливо возвращалась к одному и тому же: «Люси-то нет… К чему теперь стремиться?.. После работы чем заняться? Куда пойду?..» И, позабыв о болванках, опираясь на кочергу, стоял в раздумье и глядел куда-то мимо прессов и печей, но ничего не слышал и не видел, пока Гришоня, толкнув его, не заставлял очнуться, — молот ходил вхолостую, и Фома Прохорович сердился.
Торопясь успеть за кузнецом, Антон как-то неловко, неумело взял клещами болванку, не удержав, выронил ее, и она, искрящаяся, красная, будто налитая огненной кровью, покатилась по полу к ногам Фомы Прохоровича. Тот, поспешно отступив, подхватил ее своими клещами, сунул обратно в печь, и над ухом Антона непривычно раздраженно и властно загремел голос кузнеца:
— Мы не мух давим, а детали штампуем! Понял? Работаешь, как вареный, не руки, а крюки! — Сильный, грузный, чуть ссутулившийся, он шагнул к молоту, кинув на парня гневный взгляд, губы шевелились, — видимо, он недовольно ворчал. — Давай! — крикнул кузнец.
До обеда не отковали и половины обычной дневной нормы. Фома Прохорович отшвырнул клещи, взбил на лоб очки и пошел прочь от молота, устало, стесненно, неся впереди себя отяжелевшие руки. Гришоня подбежал к Антону и участливо, ободряющее заговорил, хлопая его рукавицами:
— Ну, что ты, в самом деле, раскис? Всегда работаешь, словно забавляешься, а нынче ходишь, будто в воду опущенный. Видишь, Фома Прохорович сердится.
Подвернув форсунки, Антон убавил пламя в печи. На чумазом лице его серые глаза горели мрачноватым огнем.
— Идем подзаправимся, чудак, — уже шутливо сказал Гришоня, подталкивая его в бок. — Нагонять надо…
В это время к ним приблизился старший мастер Самылкин, за ним Володя Безводов, хмурый, удрученный неудачей товарища.
— Ты гляди у меня, парень, — строго заговорил Василий Тимофеевич, наскакивая на Антона и пытаясь сделать свое мягкое бабье лицо суровым, устрашающим. — Был ты у меня вот где, — он выхватил из нагрудного кармана халата засаленную записную книжечку и повертел ею перед носом нагревальщика, — на странице хороших, то есть на почетной. Хотел тебя на самостоятельную работу перевести, на молот поставить. А теперь вот, гляди, вычеркиваю, — он лихорадочно провел неровную жирную черту, — и заношу на страницу плохих — на «черную»! Вот, — и торопливо вывел три первые буквы его фамилии — «Кар.». — Все! Я тебя, гляди, парень, больше не знаю, не вижу, нет у меня такого на примете!.. А то я, старый дуралей, расхвастался, расхвалил… Что ты на меня уставился своими глазищами?
Прервав мастера, Володя Безводов сказал подчеркнуто официально, точно они были совсем чужими:
— Надо выправлять положение, Антон. Что же это, мы говорим о том, чтобы вывести цех на первое место, а тут комсомолец — и вдруг явился помехой в работе.
Гришоня суетился вокруг Антона нашептывая:
— Ну, ответь, скажи, что поднажмешь, выправишь дело…
Антон исподлобья глядел на возбужденного, запаренного мастера, на Безводова и молчал, хорошо понимая, что нечего возражать, когда виноват.
Вернулся Фома Прохорович, спокойный, задумчивый, легонько отстранив всех от нагревальщика, отвел его к окну, смущенно кашлянул, дернул за козырек кепки, промолвил:
— Я тут давеча накричал на тебя, Антоша, ты, брат, извини. С тобой неладное что-то приключилось, а я не спросил, да и… в работе я забывчив, не сдержался… — Помолчав, еще раз кашлянул и добавил: — С деталью нашей на конвейере зарез, вот и всполошились все. Вызывал меня начальник кузницы, выговаривал. А я редко слышу выговоры-то. Мне, старому кузнецу, коммунисту, они обидны…
Антон чувствовал, что душа его размягчилась, согретая теплом и лаской скупых, по-отечески простых слов кузнеца; ласка эта вызвала в нем ответную нежность, доверчивость, и захотелось так же просто поведать обо всем этому большому, с виду угрюмому человеку.
Сквозь незастекленные клетки окна видно было, как дождь старательно моет груды железного лома, сечет тоненькие и уже голые деревца, растекается по земле рыжими радужными потоками.
— У тебя отец где? — спросил Фома Прохорович.
— Убит в сорок четвертом году, под Будапештом.
— Так… — тяжко вздохнул кузнец. — Один, стало быть, рос? Так… — повторил он. — У меня вот тоже двоих сынов война взяла… — И медленно отошел к молоту. А Антон ощутил в себе родственную близость к нему.
Вторую половину дня Антон работал лучше, но о рекордной выработке не приходилось и думать — еле дотянули до положенной нормы.
— Не горюйте, Фома Прохорович, — с трогательной нежностью успокаивал Гришоня кузнеца, помогая ему прибираться. — В другой раз обязательно поставим рекорд, нам ведь это не впервой.
— Слабо утешаешь, Гриша, — устало усмехнулся кузнец. — От нас именно сегодня детали требовали, конвейер ждать не будет. Может быть, вторая смена наверстает за нас…
Пришла вторая смена: кузнец Камиль Саляхитдинов, молодой татарин с широкоскулым лицом; в узких прорезях острыми лезвиями сверкали хитрые и насмешливые глаза, короткая могучая шея и широкие плечи налиты буйной силой, носки ступней повернуты немного внутрь, руки, жаждущие дела, все время в беспокойстве, в движении; и нагревальщик его, Илья Сарафанов, высоченный парень с унылым лошадиным лицом и трубным голосом.
— Иду, гляжу, плакат-«молния» висит — десять метров в длину, двенадцать метров в ширину! — громко заговорил Саляхитдинов, протягивая Антону пачку с папиросами и не спуская с него острого, насмешливого взгляда. — На плакате первое слово — «Слава!» Где слава? Кому слава? Ага! Бригада Полутенина выполнила норму на двести пятьдесят процентов. Ай, как обидно, — почему не я! Закрыл глаза, ударил себя по лбу кулаком, открыл — никакого плаката нет: померещилось. Ай, рекорд! — И захохотал, обнажая множество мелких белых зубов.
Илья Сарафанов, вторя ему, бухнул как в бочку:
— Не зная броду, не суйся в воду! — А в ушах Антона деревянно отдалось: «Бу, бу, бу!..»
Привыкший к похвалам, Антон мучительно переносил упреки старшего мастера, замечания и реплики рабочих, отворачивался морщась.
Вскоре, лавируя среди молотов, прессов, печей, перепрыгивая через конвейеры, огибая груды остывающих деталей, в бригаде появился Безводов и сказал:
— Антон и ты, Гришоня, прямо отсюда, не заходя в душ, поднимитесь в комсомольское бюро. Поговорить надо. — Он повернулся к кузнецу и, понизив голос, попросил: — Хорошо бы и вы пришли, Фома Прохорович. Это ненадолго.
Сарафанов подтолкнул Антона и с несвойственной ему игривостью пробасил:
— Иди, рекордник, получай нахлобучку… — чем и вызвал в нагревальщике внезапный взрыв долго копившейся в нем ярости: рассвирепев, Антон схватил Илью за грудь, сильно толкнул его и выпалил:
— Замолчи ты, лодырь! Тебе не только нахлобучку надо дать — совсем из комсомола вышвырнуть пора. Не работаете — потолок коптите вместе со своим бригадиром! И туда же, критиковать…