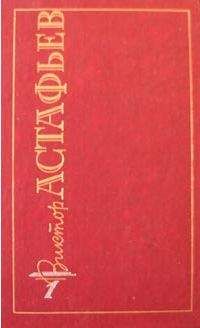Мальчишка, глядя в сторону, тоном приказа отрубил:
— Селедки с картошкой и с луком.
Василий поскреб в затылке:
— Нельзя тебе, Серьга, острого, понимаешь?
Мальчик демонстративно отвернулся к стене и скосил глаза на Василия…
— Здорово хочется, Серега?
Завихренная макушка Сережки дернулась в знак того, что без селедки жить невыносимо и диета осточертела.
Лихачев стоял некоторое время в раздумье, потом удалился. Минут через десять он принес в замазанном газетном свертке кусочек селедки, несколько перышек луку и сваренной картошки в мундире, которую дала ему старая Удалиха. К этому она сделала словесное добавление насчет того, что надо есть все, чего душе желательно, и тогда человек любую хворь победит.
— На, рубай, только проворней!
Сережка уписывал за обе щеки запретную пищу, размахивал при этом руками, пытался что-то рассказывать Василию. Лихачев не спускал с него глаз и одновременно прислушивался к шуму на улице.
Хлопнула дверь в сенках. Василий вскочил.
— Полундра, Серега! Мать идет! Засыпались!
Через секунду они уже сидели как ни в чем не бывало. Остатки еды лежали под матрацем, а Сережка, давясь, дожевывал пищу.
Тревога была напрасной. В избу завернула Лидия Николаевна. Она кое-что прибрала, поправила постель и сделала вид, будто никакой подозрительной поклажи под матрацем не заметила. Уже отворив дверь, она спросила у Василия:
— Ну и долго так думаете канителиться?
— О чем это вы?
— Будто не знаешь? Где так догадлив и храбер. Неужели мне в помощники опять зачисляться?
— Сделайте милость, тетя Лида, возьмите еще одну внештатную должность на себя, — полусерьезно, полушутя проговорил Василий и потупился. Неудобно мне самому…
— Эх ты, вояка! — с улыбкой покачала головой Лидия Николаевна. — Худой он вояка? Мышонок? — обратилась она к мальчику и притворно плюнула. — Тьфу, какой трус!
Сережка нахохлился:
— Откуда знаешь? Он не трус! Он на танке воевал!
Лидия Николаевна прикрыла рот кончиком платка и со смеющимися глазами шагнула за дверь.
Перед вечером заглянула домой Тася. Она заметила велосипед, мазутные пятна на простыне, подушке и, как это умеют делать только хозяйки, ворчливо сказала;
— Вы тут, ребята, зря на кровати ремонтные мастерские открыли. Мне стирать сейчас некогда.
«Ребята» заговорщически глядели друг на друга: ничего, дескать, пошумит да перестанет.
Трудно было Тасе сдержать душевное ликование при виде этой картины. Она осмотрела велосипед, тоже позвенела в звонок и, тихонько напевая, принялась собирать на стол.
Уже солнце село за щетинку дальних лесов, оставив после себя широкий лист раскаленного недоката, остывающего по краям, когда пришел навестить Сережку Уланов. Он держался подчеркнуто вежливо, чувствовал себя стесненно и стал быстро прощаться.
Тася вышла проводить его. Вечер успел накрыть мягким пологом деревню, сделалось прохладней. Где-то вдали опять одиноко кричал журавль. Ему никто не откликался. Уланов крепко пожал Тасе руку и, на секунду задержав ее, как бы между прочим сообщил:
— Чудинов на днях начнет сдавать свои дела и уедет работать в Сибирь.
Почувствовав, как дрогнула Тасина рука, он поспешно направил разговор в другое русло:
— Если нужно, Таисья Петровна, я похлопочу путевку в санаторий для вашего сына.
— Нет, нет, я его теперь от себя не отпущу, — запротестовала Тася и, высвободив руку, отступила назад, в сенки. Оттуда прозвучал ее напряженный голос:
— Вы знаете все, Иван Андреевич?
Наступило долгое молчание, и человек, которому страшно хотелось соврать, не сумев этого сделать, произнес:
— Да.
Опять пауза, только еще более продолжительная. В наступившей тишине слышалось лишь их дыхание. Даже журавль умолк, устал, видно. Звякнула щеколда ворот. За дощатой перегородкой сенок заскрипели половицы под грузными шагами. Яков Григорьевич возвращался с работы домой. Открылась дверь, на улицу выплеснулся ребячий гомон. Дверь стукнула, и снова сделалось тихо.
— Я вот часто теперь задумываюсь, — неожиданно заговорила Тася, задумываюсь над тем, что было бы со мной и с Сережкой, если бы вокруг нас не жило столько хороших людей.
Иван Андреевич ничего не ответил, только слегка встрепенулся и поискал ее взглядом. Глаза уже привыкли к темноте, и он различал ее фигуру с накинутым на плечи белым шарфиком. Она стояла, прислонившись спиной к косяку, и смотрела вверх, на звезды. Смотрела задумчиво, тихо. Многое научилась понимать Тася и потому часто задумывалась.
Вернувшись с улицы, она застала Сережку и Василия за интереснейшей, с мальчишеской точки зрения, беседой. Они разговаривали про войну. Сережка весь подался вперед и восхищенно, с полуоткрытым ртом слушал Василия.
— А вот что такое герой, дядя Вася? — спросил мальчик и уставился в рот Лихачеву своими любопытными, до необычайности жадными глазами. — Это тот человек, который больше фашистов убил, да?
— Герой?
Василий задумался. Оказывается, очень трудно ответить на такой, казалось бы, простой вопрос, особенно ребенку. Ведь даже у взрослых неодинаковое представление о героизме, а у детей герой — это тот, кто самолеты сбивает, из пулемета косит врагов, как козявок. Они, дети, видят героев в кино и склонны думать, что герои бывают только на войне. И Сережка, конечно, ждал, что дядя Вася сейчас начнет рассказывать такое, что дух захватит.
Тася стояла с недочищенной картофелиной, ожидая ответа Василия. Все так же неотрывно глядел ему в рот Сережка, и Лихачев понял: не надо в этот удивительно ласковый и мирный вечер рассказывать про войну, про смерти и кровь. Не надо. Он потрепал Сережку за щеку и с плохо скрытой грустью сказал:
— Нет, Серега, герой не тот, кто больше убил.
Сережка не понял Василия, а Тася поняла, утвердительно закивала головой. Василий принялся разъяснять Сережке, что, когда он вырастет, наступят уже другие времена, и, может, о войне уже все люди забудут, и на земле будут только трудовые герои… может быть…
Поздней ночью Сережка угомонился, заснул, положив руку в руку Василия. Лихачев осторожно поднялся, накрыл малого одеялом, постоял еще возле его постели и засобирался домой.
С каждым днем ему все труднее и труднее становилось уходить из этого дома. Сегодня покидать его особенно не хотелось. Он завел часы на угловике, поискал еще какую-ибудь работу, которая могла бы хоть ненадолго задержать его здесь, и, не найдя, начал прощаться. Он дошел до днери, обернулся. Тася молча глядела ему вслед и закручивала кончики шерстяного шарфика жгутом.
— Скажи, Вася, тебе не хочется, ну… уходить?
Василий поднял глаза, взглянул на нее с удивлением и, скомкав в руках кепку, признался:
— Не хочется.
Он тут же схватился за дверную ручку, готовый выскользнуть на улицу.
— Погоди.
Тася медленно подошла к нему, скрестила на груди шарфик и продолжала все так же тихо, глядя прямо ему в глаза:
— Если ты все обдумал, если… оставайся… Мне скрывать от тебя нечего. Я тебя люблю.
За окном занималось утро. Оно медленно проникало через окна.
Василий распахнул створки. На подоконник упали легкие снежно-белые лепестки. Ночью расцвела черемуха.
Маленькая южная гостья — яблонька, посаженная Юрием три года назад, смело тянулась за зубчики частокола. Переболела яблонька, и не храни ее от ветра и холода ветвистая черемуха, может быть, и погибла бы.
Оттого, что дом Лидии Николаевны стоял на крутоярье, солнце заглядывало здесь в палисадник раньше, чем в другие. Еще внизу, в распадке, у берега Корзиновки и на острове, едва-едва обозначались липкие язычки листьев на кустах, а на Макарихином угоре уже млела в цвету черемуха — у всех на виду, тихая, белая.
В домах начинали топить печи, запахло в деревне дымком. На улицах замычали коровы, защелкал кнутом пастух Осмолов, выгоняя стадо за околицу. К правлению колхоза, поеживаясь и зевая, прошел уполномоченный из райкома, человек городской, не привыкший вставать рано. Из дворов, что-то еще наказывая на ходу ребятишкам, с узелками в руках выходили женщины и спешили на поля и фермы. Дымя махрой, мужики запрягали лошадей у конного двора и привычно ругали конюха, который так же привычно огрызался, вытаскивая сбрую во двор.
В чьем-то доме играло радио, но его заглушал стук: колхозник Балаболка рубил топором угол конного двора, пробуя острие. Он мозолил топор на точиле в конюховке часа два, пережидая, когда все уберутся на работу, и он потихоньку начнет загораживать свой индивидуальный участок. На Балаболку никто не обращал внимания, и он рубил, рубил да зыркал по сторонам.
А улицы Корзиновки становились все шумней и многолюдней. Деревня просыпалась. Люди собирались на работу.