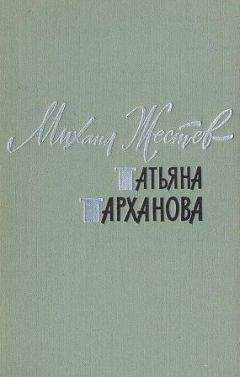Игнат снова умолк и, словно собравшись с мыслями, продолжал:
— И только одна сила была, которая из нас, мужиков, могла сделать такой рабочий класс! Партия! Она не испугалась нас, мужиков из деревни. И встретила не как чужих, а как своих и направила, куда нужно было. Партия, она знала: великая сила нужна великой стране. Не отвела в сторону, не построила запруду, а приняла на свое колесо. И оно, это колесо, всю землю поворачивает.
Игнат остановился, перевел дыхание и произнес:
— А на душе, Танюшка, опять беспокойно. Вот был я у Ефремова. А ушел и сам себе говорю: ты, Игнат, не Еремей, не зря по земле ходишь. Смотри, целый комбинат стоит, там твои труды есть. Смотри, целые поезда с огнеупором, что ни день, на металлургические заводы отправляют — и там немало твоих трудов. А все-таки чего-то тебе не хватает. Вроде как не делаешь всего того, что тебе полагается. Бывало, утром идешь цехом — любо взглянуть вокруг. А теперь не тот, что ли, колер? И то не нравится, и это бы подправил. Один раз на директора налетел: что вы там со своей реконструкцией долго возитесь? Много мне жизнь задавала загадок. Как мог, разгадывал, а эту не могу. Хожу вокруг да около, а в суть не вникну. Иной раз казалось, вот-вот весь смысл ухвачу, а он — нырк — и спрячется. И вдруг все понял: должен я в партию вступить.
Впереди шумели никогда не замерзающие мстинские пороги. Игнат свернул к берегу, распахнул полушубок и достал из кармана часы. Словно проверяя их, он посмотрел на солнце и сказал, легко поднимаясь по крутой снежной тропе:
— Тут, пожалуй, мне будет ближе!
Сухоруков ждал Игната в своем парткомовском кабинете, где часто в воскресные дни по утрам, как говорили, он работал над какой-то книгой.
— Так какой у тебя разговор ко мне, старик? — встретил он Тарханова, усаживая его рядом с собой.
— Большое дело...
— Выкладывай, Игнат Федорович.
— Не знаю, с чего и начать... ну, в общем, так! Ты меня раскулачивал, верно?
— Был грех.
— Тут еще как сказать, чей грех, а чья вина. Не ты, так другой. Но теперь мне с тобой никак не разминуться. Хочу в партию идти. И пришел к тебе, Алексей Иванович, за рекомендацией... Коль считаешь меня достойным — не откажи, а коль сомневаешься, так не стесняйся — бей наповал, отказывай.
— И давно ты об этом думаешь?
— Раньше тоже, бывало, говорил себе: а что, Игнат, ты вроде как не хуже иного партийца? А сейчас места себе не нахожу, все в одну точку уперлось: должен ты стать партийцем, иначе нет для тебя жизни.
— Это ты силу свою ищешь, Игнат Федорович. Ты понимаешь, есть человек, который всю жизнь проживет беспартийным — и ничего. А в жизни другого должна наступить такая пора, когда он должен стать, когда он не может не стать сильнее, чем был вчера, когда он понимает, что именно он прежде всего должен быть коммунистом, и тогда, в этот великий час, он вступает в партию. Видно, и твоя пора пришла, Игнат Федорович.
— А примут?
— Приходи в середине недели за рекомендацией.
— Старик ведь я.
— Одно яблоко в июле зреет, а другое только-только в сентябре.
— Поздний антон?
— Да, антон! Но кто сказал, что поздний хуже?
В тот день, вернувшись от Сухорукова, Игнат зашел к внучке в ее комнату и сказал, присаживаясь на диван:
— Так что вот, Танюшка, какие дела. На старости лет и я в партию пошел. Не могу иначе. Не вступить в партию — все равно что не жить. А жить очень хочется. Оно, конечно, как партийному, придется на новые обороты переходить. Известно, с коммуниста и спрос коммунистический. Только машине страшно не тогда, когда она скорость прибавляет, а когда со всего хода тормоз дает. Вот так! И знаешь, о чем я сейчас думаю? Ты скажи, сколько во всем мире мужиков?
— Не знаю, деда.
— Миллиард будет? Не меньше. И не каждый ведь понимает еще, где его главный интерес. Ведь что боязно: придет время сообща работать — кто бросится за своей Находкой, кто за таким, как Ефремов, пойдет и, надо и не надо, попрет в город. Может так быть? А почему не может? Так вот, Танюшка, как бы этим людям рассказать про себя, чтобы они знали, по какой дороге идти им и не плутать, вроде меня, невесть где? Многое я бы дал тому, кто бы меня вовремя вразумил: куда идешь, Игнат? Против себя идешь! Только какое там вразумление могло быть, когда шли мы нехоженой дорогой, примеру не видели, а мужик, известно, не то что слову, глазам не верит, ему дай пощупать. Вот о чем думаю. Было время — кроме своей полосы, ничего не знал, а теперь совсем другое беспокойство у меня. Выходит, моя полоса — вся земля, весь мир. И на этой земле нашел я правду. Долго искал, а нашел. Вот только не знаю, примут ли меня в партию. Не один Сухоруков решает. Тут и партком, и горком. Но все равно — назад ходу нет.
Смеркалось, когда в коридоре раздался звонок. Татьяна бросилась к дверям и увидела перед собой Ульку. Хотя стояла зима, но ее лицо было загорелое, и Татьяне показалось, что вместе с подругой к ней в комнату ворвался с полей весенний ветер, резкий, обжигающий и еще не успевший потеплеть после долгой зимы. Обнимая Татьяну, Уля сказала простуженным грубоватым голосом:
— Ты прости, что я без предупреждения. Но дома никого нет. Отец уехал к Федору в Ленинград, каким-то там профессорам показаться, и только завтра приедет.
— Улька, и не стыдно?
— Тогда где тут у вас умываются? Ты знаешь, зачем я приехала? В агрошколу на полгода! А в общем, как видишь, Танька, я жива, здорова и как будто еще молода. Ну, а как твои, как Игнат Федорович, как бабушка? — Она сбросила с себя пальто и, не ожидая, пока Татьяна поведет ее в ванную, сама пошла туда, оглядела кафельные панели, потрогала никелированные краны и, пустив воду, уверенно сказала: — У нас тоже так будет. Дай срок. — И, лишь намылив руки, она взглянула внимательно на Татьяну и настороженно спросила: — Танька, а у тебя все в порядке? Почему усталая морда?
— Много работы.
— Так и поверю. Сердечные неувязки?
— Мойся скорее. Слышишь, на кухне дед сапогом самовар раздувает.
— А на кухне у вас какая печь? Русская?
— Что ты!
— Неплохое, в общем, сооружение.
— Ты что, домашней хозяйкой стала?
— Наоборот, воюю с домашним хозяйством. Ну, давай полотенце. Махровое? А нельзя ли простое, льняное? Куда приятнее. А теперь скажи, подурнела я? Нет? Вот видишь, что значит свежий воздух!
Улька как будто была прежней. Прямая и резковатая в своих суждениях, но такая же добрая, славная Улька. И в то же время в ней появилось что-то незнакомое. Это незнакомое ощущалось, о чем бы она ни говорила, даже чувствовалось в ее движениях.
— Рассказывай, рассказывай, как там в наших Пухляках, — встретил ее Игнат, усаживая рядом с собой за стол. — Как Матвей?
— Если по-честному — плохо.
— Слыхал, трудодень грош да грамм.
— Не в них дело, Игнат Федорович. Нет ясности жизни. Весной говорят — сей больше, а осенью требуют — все продай за бесценок. С одной стороны, стараемся, чтобы в каждом дворе была корова, свое приусадебное хозяйство, а с другой — такие налоги, что хоть режь корову.
— А как земля родит?
— Истощена земля. Долго дождей нет — пыль, а после дождя — камень. Не землей живем... Лесом. Рубим, продаем, деньги получаем. Да ведь долго лесом не проживешь. Матвей ночи не спит, все думает, а концы с концами никак не свести. — Ульяна замолчала, потом проговорила, словно каждое слово давалось ей с огромным мучением:
— А хуже всего, что все чего-то требуют, а объяснить что к чему — не могут. То делаем ставку на технику, то на агрономию, то на организацию. Все это нужно. Но почему не делают ставку на человека, на землю? Я, может быть, ничего не понимаю... Но почему у нас все мерят на миллионы и не видят, что все дело в человеческой душе? Дай ей ясность, и она сделает то, чего не добьешься никакими деньгами.
— Значит, туго Матвею?
— Партия что-то должна решить. И все, с кем ни поговоришь, то же самое думают.
— Бежать хочет?
— Хотел бы бежать, разве я приехала бы в агрошколу? А хуже всего с землей. Еще больше запущена, чем душа иного колхозника. Где покосы были, там ивняковые заросли, волчьи логова. Да и ту, на которой сеем, плохо знаем. Надо ей плодородие возвращать, надо ее в исправное состояние приводить, а как, если она для нас закрытая книга?
Татьяна и раньше слыхала, что не все в деревне хорошо, что есть колхозы, где людям не стало интереса жить, и они бегут — кто в город, кто на сплав, кто в шахты уголь добывать. Она знала, что в Пухляках дела обстоят неважно, иначе бы туда не послали Матвея. Но все это как-то не задевало за живое, жизнь деревни интересовала ее не больше, чем работа леспромхоза или трикотажсоюза, о деятельности которых в местной газете помещались сводки. И вдруг вот сейчас, после всего того, что она услышала от Ульки, ей почему-то стало мучительно стыдно и страшно взглянуть на деда. Разве она тоже не убежала от земли и не стоит сейчас в сторонке, когда там, в Пухляках, так плохо? Дед в партию вступает. Улька будет агрономом. Они борются, как настоящие люди. А кто она? Мнимый естествоиспытатель, забывший о своей мечте, о своей идее? У нее было такое ощущение, словно Улька ее ударила по лицу и продолжает бить каждым своим словом, уже обращаясь не к деду Игнату, а прямо к ней, словно требуя от нее ответа: