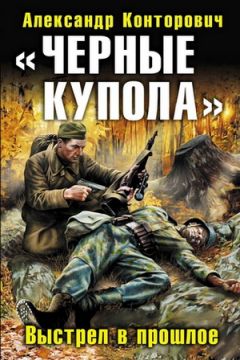— Что скажешь, Ян? — спросил Станислав.
Снова стало тихо.
Ян молчал. За несколько минут он понял больше, чем за все время, проведенное на родине. Как раскололся мир! Нет в нем места для тишины и покоя. Надо быть там или здесь.
— Мы пойдем вместе, Юзек!
Надежда, сумасшедшая надежда на спасение послышалась Юзеку в словах брата:
— Я так и знал. Благоразумие возьмет верх. Только скорей, скорей! Нам помогут. Мы перейдем границу. У нас есть друзья. Только скорей!
— Ты прав. Благоразумие победило. Мы пойдем в управление госбезопасности.
Юзек снова отскочил в угол:
— Я не пойду! Не пойду!
Отец? Нет, он не простит! Станислав? Нет, нет! Ванда? Тоже нет! Мать? Только мать! Юзек на коленях пополз к матери, уткнул голову в ее ноги:
— Мама! Пожалей! Помнишь, как ты защищала меня, когда я был маленький? Пожалей меня теперь. Я жить хочу. Жить!
Ядвига сидела с закрытыми глазами, сжав голову руками.
Станислав подошел к Юзеку:
— Встань! Иди с Яном. У тебя осталась одна дорога.
Юзек поднялся с колен. Обвел взглядом лица родных. Кроме горя, ничего на них не увидел. Поплелся за Яном.
Увидев уходящих сыновей, Ядвига вскочила:
— Дети!
Ванда обняла мать, прижала ее голову к своей груди.
Когда Осиков ехал в Польшу, он предвидел, что поездка может оказаться не из легких, что за границей его будут подстерегать всякого рода неожиданности. Он готовился их встретить достойно, как и подобает человеку выдержанному, умудренному житейским опытом, политически подкованному.
Но действительность превзошла все ожидания, сбылись самые худшие опасения. Еще недавно Осикову казалось, что сто граммов, выпитые воркутинцами в вагон-ресторане, чуть ли не ЧП. Его записная книжка была испещрена пометками:
«Самаркин опять усмехался, когда я говорил о бдительности», «Очерет по-прежнему не отходит от окна», «Волобуев на одной станции бегал в буфет».
Какая мелкая, не стоящая внимания чепуха! На фоне последних событий все его факты и фактики — жалкие семечки. В польской семье, куда зачастили члены делегации Петр Очерет и Курбатова, творится какая-то чертовщина: убийство, провокации. Появился мальчишка, по всем данным, немецкой национальности и темного социального происхождения, которого Курбатова хочет усыновить. Есть от чего схватиться за голову!
Возвратится делегация в Москву, и его, раба божьего, потребуют к ответу: «Где вы были, товарищ Осиков? Почему не проявили принципиальности, бдительности, не предупредили, не пресекли? А еще опытный старый кадровик! Пишите заявление и уходите на пенсию!»
Что же делать? Выход один: сейчас же, немедленно написать обо всем докладную: подробно, объективно, самокритично. Изложить на бумаге все накопившиеся факты, поставить все точки над «и», дать оценку произошедшим событиям… Пусть в Москве разберутся. Конечно, влетит и ему, — недосмотрел! — но все же учтут, что он сам первый просигнализировал, собрал нужные материалы и чистосердечно признал свои ошибки.
Перед Осиковым на столе стопка бумаги, авторучка заправлена чернилами. Сиди и пиши. Досконально, подробно, в хронологическом порядке. Факты, только факты…
Факты… Почему-то ему вдруг вспомнился далекий летний вечер тридцать седьмого года. Он тогда еще только начинал свою карьеру кадровика в наркомате, в Москве, в огромном коричневом здании на Садовой.
По порядкам, заведенным в те времена, рабочий день служащих наркомата затягивался чуть ли не за полночь. Называлось ночными бдениями. Сам нарком (он обычно отдыхал после обеда часов пять) сидел, пока не посветлеет край неба за Колхозной площадью, и, естественно, на местах был и аппарат: вдруг «наверху» потребуются справки, цифры, документы.
Сидел однажды поздним вечером в своем кабинете и Осиков. Работы не было, и он от нечего делать просматривал личные дела сотрудников управления, делал пометки: что запросить дополнительно, что уточнить, что проверить или перепроверить.
Было уже часов одиннадцать, когда в кабинет неожиданно вошел Лазарев. Осиков тогда еще точно не знал, какой пост Лазарев занимает в наркомате: не то заведующий секретариатом, не то начальник спецчасти. Кабинет Лазарева находился на третьем этаже, в том же крыле, где размещались апартаменты наркома и его бесчисленных заместителей. Массивная, глухая, темного дуба двойная дверь без дощечки всегда была плотно закрыта. Один вид ее внушал Осикову чувство страха, и он старался побыстрее пройти мимо нее, не стучать ботинками, благо во всю стометровую длину коридора лежала ворсистая темно-бордовая ковровая дорожка.
Лазарев, человек солидный, упитанный, ходил в полувоенной габардиновой тужурке цвета хаки, в галифе и щегольских хромовых сапогах. Так в те годы одевались ответственные работники…
Лазарев вошел не торопясь, тщательно — видно, по привычке — закрыл за собой дверь. На розоватом, чисто выбритом лице его светилась доброжелательная, просто пасхальная улыбка:
— Работаете, Алексей Митрофанович. Вижу, огонек у вас горит, дай, думаю, зайду. Проведаю.
То, что Лазарев назвал его по имени и отчеству, было само по себе удивительным и настораживало: они не были знакомы, никогда не разговаривали друг с другом.
Муторно стало Осикову от улыбки и приветливых лазаревских слов. Ясно, что Лазарев зашел к нему не случайно, не мимоходом, а пришел специально, по неизвестному делу и даже предварительно узнал его имя, а может быть, и не только имя… Хана!
Лазарев удобно уселся, не спеша закурил, смотрел на Осикова ласковыми, светлыми, пожалуй, слишком светлыми для мужчины в летах глазами.
— И у вас, я вижу, работы много, — сказал с похвалой. Вздохнул: — Да, время такое переживаем. Работы у всех невпроворот. Газеты небось читаете, знаете, что в стране делается. Ухо востро нужно держать. Ох как востро! Особенно нам, кадровикам.
То, что Лазарев говорил доброжелательно, почти ласково, и его благосклонное «нам, кадровикам» не успокоило Осикова. За такой мягкостью чудилась когтистость кошачьей лапы. Где скрыты когти, готовые в любую минуту вонзиться в него?
Улыбка, маслено блестевшая на полных губах Лазарева, внезапно исчезла, ясные светлые глаза стали острыми, настороженными.
— Кстати, верно, вы уже знаете, Алексей Митрофанович, что вчера ночью органами арестован наш нарком. Врагом народа, подлец, оказался. Немецким шпионом.
Осиков еще не знал такой новости. Всего несколько дней назад на общем собрании работников управления нарком выступал с докладом о политической бдительности. Осиков сидел невдалеке от трибуны и хорошо видел бледное, истощенное лицо наркома (тогда еще подумал: нелегко ему на высоком посту), мешки под глазами, на узком лице чернела узкая длинная борода, делавшая его похожим на монаха-отшельника, какими их изображали на лубках.
Осиков смутился, словно и он был виноват в том, что нарком оказался шпионом. Что-то промямлил. Но Лазарев не стал вслушиваться в его бормотание. С возмущением, в чистосердечности которого трудно было усомниться, рассказывал:
— Помните, он в прошлом году в командировку в Германию ездил? Там его и завербовали. И как глупо. На автобусной остановке организовали ссору, отвели в участок, поднажали и завербовали. Грубая работа.
Осиков сидел ошеломленный, еще не понимая, почему с ним так откровенничает Лазарев. Но чувствовал: есть в его рассказе тайный смысл, мораль.
— Ох как в наши дни бдительность нужна! — вздохнул Лазарев и сокрушенно покачал головой. — Многие не понимают, проявляют беззубый либерализм, близорукость. Между тем известно, что политическая бдительность — главное качество советского человека.
Лазарев смотрел на Осикова строго, почти враждебно, и Осиков чувствовал, как внутри его что-то сжимается, словно он и впрямь виноват в том, что народный комиссар, старый большевик, сидевший в царских тюрьмах, бывший на каторге и в ссылке, боевой комиссар в годы гражданской войны, на поверку оказался врагом и предателем.
— Вы, товарищ Осиков, работаете на таком остром участке и не могли не замечать, что у вашего начальника управления подозрительно дружеские отношения с наркомом.
Осиков никогда ничего такого не замечал. Так он и хотел сказать Лазареву: «Не замечал!» — но замялся.
Лазарев выжидательно и настороженно смотрел на смутившегося Осикова. Достал из кармана аккуратно сложенную газету.
— Полюбуйтесь.
В газете был напечатан снимок: президиум общего собрания работников управления. За столом президиума в самом центре сидят нарком и начальник управления и о чем-то беседуют.
— Как вам нравится такая картинка? Признайтесь, ведь вы замечали их близкие отношения? Не правда ли, замечали?